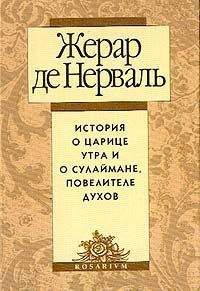Валентин Проталин - Тезей
Правда, кто почище, да посостоятельней, кто с табличками не расстается и с заморскими свитками, кто горазд рассуждать о всяких отвлеченных материях, скептически улыбались. И не потому, что камни не могут в людей превращаться — все в руках богов. Нет, они считали: по-настоящему-де местные в Аттике только пелазги, которые когда-то стены Акрополя строили. Пелазги, по большей части живущие сейчас в Фессалии.
В конце концов, может быть и так, но кто же теперь это помнит. А если и помнит, то и… Важнее другое. Обитатели Аттики, постоянно живя на каменистых, непривлекательных для захватчиков землях, научились их обрабатывать. И стали получать урожай, какого без настоящего труда и на плодородье не получишь. И деревья сажали, будучи оседлыми. Недаром же богиня Афина именно сюда, на аттические камни, принесла свою оливу. И достатка в основательных здешних домах поднакопилось. Не торговый Коринф, но все-таки. И носят афиняне, пусть и шерстяные, но тонкие хитоны под плащами. И волосы закалывают, чтобы прическу хранить, золотыми булавками в форме цикад. Сродственников здешних кузнечиков. А, значит, и их самих, жителей Аттики. И когда теперь их имело бы смысл и грабить, они стали достаточно многочисленными для отпора. Нарожали поколения, сидя на месте. И изгнанники или другие какие-то перебежчики из остальной неустроенной Греции стремились под их мирные небеса. Не без имущества, между прочим. Тем, кто гол да бос, чего бежать. Ведь нужно или ремесло, или богатство.
Конечно, афиняне гордецы. А еще и забияки. Даже в трезвом виде. И палкой афинянин побьет, но ведь не порубит.
И вот, стуча своими тросточками, афиняне разнесли по городу слух о том, что Тезей ожил, весел, хохотал даже. Разнесли, пошумели и затаились в предвкушении праздника. И еще: чтобы поощрить и приветствовать Тезея, место у храма Аполлона Дельфиния, где пролилось вино, смешанное Медеей с ядом, обнесли медной оградой. Благо оградка давно была готова. Но и случая поставить ее все не представлялось. Последнее обстоятельство доставляло суеверным афинянам массу неудобств. Как ни берегись, а забудешься и ступишь ногой на это проклятое место. Или не ходи мимо храма, чтобы всякий раз не очищаться. Или всякий раз сосредотачивайся, думай о том, чтобы сюда не ступать.
Пока славные жители города замерли, предвкушая веселие, на Акрополе Тезей собрал совет. На совете, кроме Поликарпа с Лаодикой и Мусея, неразлучного с молодым владыкой, присутствовал Академ из Колона, об учености которого в Аттике были понаслышаны. Академ привел с собой колонянина же Тимона. Тимон был, правда, не столько ученостью, сколько тем известен, что вроде бы понимал чуть ли не всякого жителя Аттики, а потому часто бранился по праву ближнего со многими из них. Надо полагать, Академ привел с собой Тимона, чтобы среди чужих заручиться поддержкой, солидарностью сородича.
— Люди одинаковы? — спросил Поликарп для начала собравшихся.
— Одинаковы, — поспешно ответил Академ.
— Поэтому-то, наверное, боги разделили нас на мужчин и женщин, — улыбнувшись, заметила Лаодика.
Академ косо глянул на нее, как бы говоря — при чем здесь эта представительница иной половины дома. Он вообще сразу же испытал чувство неудовольствия от присутствия на совете женщины.
— Люди равны, а не одинаковы, — твердо заявил Мусей.
— И всякого рождает женщина, — добавила Лаодика.
На Лаодику теперь Академ и не глянул. Он уставился на Мусея.
— И женщины? — спросил он.
— Женщина рождает и женщин, — воспользовался аргументом Лаодики Мусей.
— Нет, ты прямо отвечай, — не отставал от него Академ.
— Не равны, не равны, — успокоил Академа Мусей, — женщина выше…
— Оставим шутки, — поморщился ученый колонянин, — давайте серьезно… Мы можем кое о чем думать по-разному, но мы равно понимаем друг друга… Этим и отличаемся от толпы… Я ведь беру главное. Люди одинаковы в том смысле, что каждый владеет по праву тем, что ему принадлежит, тем, что накопили семьи. А у кого сколько — это уж, кто смог чего добиться заботами своими. И раз все это наши семьи, то нельзя ничего ни у кого отнимать. Не станем же мы разбойниками по отношению к самим себе.
— Никто не собирается быть разбойниками, Академ, — успокоил его Поликарп. — Ты ответь, — спросил он, — отличается ли ремесленник от земледельца? — И сам ответил. — Конечно, отличается. И народовластие мы собираемся вводить для того, чтобы каждый из нас равно почувствовал себя свободным в своем доме, совершенствовал и дом, и себя.
— Прекрасно, — согласился Академ, — и не трогал чужого.
— Да, да, — подтвердил Поликарп. — Но, чтобы стать свободным в своем доме и в своей жизни, человек свободно должен решать вместе с другими вопросы всех, поскольку это и его вопросы.
Лаодика совершенно свободно вела себя в обществе мужчин. Но, когда говорил ее Поликарпик, видно было, что она вся тянется к нему. Даже слегка наклоняется в его сторону. И всякий раз, когда, желая что-нибудь ему сказать или от него услышать, эта женщина обязательно приблизит свое лицо к его лицу. И ведь не как к ребенку, и не только как к мужчине, а еще как-то… Тезей смотрел на нее со стороны и… нет, не завидовал брату. Он с давних пор, еще с первой их встречи с Лаодикой, связывал с ней нечто подобное свое, что должно было случиться, чего ждал. Он гляделся в нее, словно в некое зеркало своего будущего, желанного, как ласка матери…
Теперь пришла очередь Тезея, и он поднялся.
— Я хочу крикнуть, — начал молодой царь, — сюда, все люди! Я оставляю мегарон афинских владык только для гостей. Пусть очаг его горит для близких моих и для тех, кого боги приведут сюда, отправив в дорогу. Мы устроим общий Пританей для всей Аттики. Не только Афины, где каждый живет сам по себе, не только семьи, закрывающие двери от остального мира, но и города, ограничивающие себя лишь налогами в царскую казну и поставками в хранилища, пусть объединяются вокруг всеафинского очага.
— Прекрасно, все вместе, — одобрил Академ. — А как с общими нуждами? Они ведь тоже увеличиваются вместе с нашим братством.
— Те, кто явно богаче других, сверх положенных взносов будут дарить всем остальным и корабли, и праздники. Для большого почета, для заслуг перед другими, — объяснил Тезей.
— Добровольно… так… так, добровольно, это хорошо, — размышлял Академ.
За исключением учености, признаваемой всеми, сам Академ не обладал каким-либо заметным достатком.
— И мнение свое, — продолжал Тезей, — народ будет выражать на народном собрании не ревом, где главное перекричать противную сторону, а так, чтобы голоса посчитать можно было. Скажем, по поднятым рукам.
— Фу, — поморщился Мусей, — лучше уж камешки считать.
— Или черепки, — добавила Лаодика.
Битой посуды всегда хватало в Афинах.
— А как же все это будет называться? — недоумевал Академ.
— Голосованием, — сразу же нашлась Лаодика.
— Почему? — продолжал недоумевать Академ.
— Не почему, а зачем, — пояснила Лаодика. — Чтобы недавние крикуны не забывали, чем они занимаются.
— А почему молчит мудрый Тимон? — спохватился вдруг Тезей.
Тимон, сидевший, кажется, безучастным, сердито вскинулся:
— Люди одинаковы…
— Вот-вот, — оживился Академ, но еще и для того, чтобы Тимон дальше не продолжал.
Однако Тимон отстранил его резким жестом.
— Люди одинаковы, — продолжал он уже спокойней, — потому что одинаково отделились от природы. Я не знаю разницы между знатным богачом и ремесленником. Посмотрите на лесное зверье, на птиц в небе. Им не нужен врач, им не нужно напридуманной пищи.
— Предложи птицам сладкий пряник, Тимон, — улыбнулся Мусей.
Это поддало Тимону жару, и он опять стал горячиться.
— Тут-то и есть соблазн, — вскипел Тимон. — Из нас никто не хозяин себе, никто не умеет быть самим собой. Все стремятся стать похожими на поднаторевших в поисках удовольствий сластен. Никто из нас не самостоятелен, все рабы, как мухи, летят в паутину богатств. И знаешь, — обратился Тимон к Тезею, — чем кончится твоя затея?
— Чем? — спросил Тезей.
— Они украдут у тебя власть, которую ты им даришь и которой владеешь по праву, и отдадут тебе ее обратно, но уже не как твое. И станешь ты деспотом.
— Я и так царь, — возразил Тезей, — я добровольно отдаю власть. Я не стану деспотом.
— Тогда им станет кто-то другой, — заявил Тимон. — Тот, который будет много хуже тебя. Поскольку он-то не откажется.
— Что же ты предлагаешь, Тимон? — спросил Тезей.
— Ничего, — ответил Тимон, — себе я уже предложил.
— Что же ты предложил себе? — продолжал допытываться Тезей.
— Я строю башню, — нехотя пояснил Тимон. — Удалюсь туда от всех вас.
— То, что ты строишь, будет башней? — в свою очередь удивился Академ.