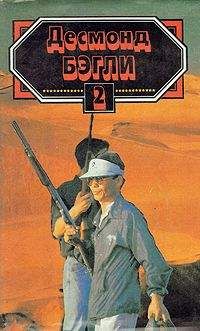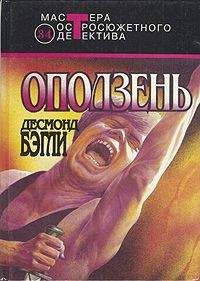Гянджеви Низами - Пять поэм
В оправдание сочинения этой книги
В этой главе Низами рассказывает о том, как к нему пришел его друг, отличавшийся фанатическим благочестием и ученостью, и стал его попрекать за то, что он, праведник, автор «Сокровищницы тайн», пишет стихи о царе, жившем давно, до ислама, о зороастрийцах, «неверных», пишет о «всякой падали» вместо прославления единства Аллаха. Низами прочитал ему уже готовое начало поэмы, и благочестивый был покорен сладостью стихов, благословил его на завершение труда, но попытался давать советы. На его похвалы и советы Низами отвечает речью, проникнутой сознанием своей правоты. Фанатизму он противопоставляет светлую радость, в которой не забывают о боге.
Начало рассказа
Так начал свой рассказ неведомый сказитель
Повествования о канувшем хранитель:
Когда луна Кисры во мрак укрылась,[114] — он
В наследье передал Ормузу царский трон.
Мир озарив, Ормуз державно создал право,
И правом созданным прочна была держава.
Обычаи отца на месте он держал.
И веру с милостями вместе он держал.
И, рода своего желая продолженья,
Он посвящал творцу все жертвоприношенья.
Творец, его мольбы отринуть не хотя,
Дал мальчика ему. О, дивное дитя!
Он был жемчужиной из царственного моря,
Как светоч, он светил, светилам божьим вторя.
Был гороскоп хорош и благостен престол:
Соизволеньем звезд свой трон он приобрел.
Его отец, что знал судьбы предначертанье,
Ему «Хосров Парвиз» дал светлое прозванье.
Парвизом назван был затем царевич мой,
Что для родных он был красивой бахромой.[115]
Его, как мускус, в шелк кормилица укрыла,[116] —
В пушистый хлопок перл бесценный уложила.
И лик его сиял, все горести гоня,
Улыбка сладкая была прекрасней дня.
Уста из сахара та́к молоко любили!
И сахар с молоком младенцу пищей были.
Как роза он сиял на пиршествах царя,
В руках пирующих над кубками паря.
Когда же колыбель ристалищем сменилась,
Им каждая душа тем более пленилась.
Был в те года храним он сменою удач,
Всему нежданному был ум его — толмач,
Уже в пять лет все то, что дивно в нашем мире,
Он постигал, и мир пред ним раскрылся шире,
Парвизу стройному лет наступило шесть,
И всех шести сторон мог свойства он учесть.[117]
Его, прекрасного, увидевши однажды,
«Юсуф Египетский!» — шептал в восторге каждый.
И к мальчику отец призвал учителей,
Чтоб жизнь его была полезней и светлей.
Когда немного дней чредою миновало, —
Искусства каждого Хосров познал начало.
И речь подросшего всем стала дорога:
Как море, рассыпать умел он жемчуга.
И всякий краснобай, чья речь ручьем бурлила,
Был должен спорить с ним, держа в руках мерило.
Он волос, в зоркости, пронизывал насквозь,
Ему сплетать слова тончайше довелось.
Девятилетним он покинул школу; змея
Он побеждал, со львом идти на схватку смея.
Когда ж он кирпичи десятилетья стлал, —
Тридцатилетних ум он по ветру пускал.
Была его рука сильнее лапы львиной,
И столп рассечь мечом умел он в миг единый.
Он узел из волос развязывал стрелой,
Копьем кольцо срывал с кольчуги боевой.
Как лучник, превращал, на бранном целясь поле,
Он барабан Зухре в свой барабан соколий.[118]
Тот, кто бы натянул с десяток луков, — лук
Хосровов гнуть не мог всей силой мощных рук.
Взметнув аркан, с толпой он не боялся схваток.
Обхват его стрелы был в девять рукояток.
Он Зло пронзал стрелой — будь тут хоть Белый див.[119]
Не диво — див пред ним дрожал, как листья ив.
Коль в скалы он метал копья летучий пламень, —
Мог острие копья он вбить глубоко в камень.
А лет четырнадцать к пределу донеслись —
У птицы знания взметнулись крылья ввысь.
Он все укрытое хотел окинуть взором,
Добро и зло своим отметить приговором.
Один ученый жил, звался Бузург-Умид.
Сам разум — знали все — на мудрого глядит.
Все небо по частям постичь он был во власти,
И вся земля пред ним свои вскрывала части.
И были тайны тайн даны ему в удел.
Сокровищниц небес ключами он владел.
Хосров его призвал. В садах, к чертогам близким,
Тот речью засверкал, — мечом своим индийским.
Он в море знания жемчужины искал,
Руками он ловил, царевичу вручал.
Он озаренный дух овеял светом новым, —
И было многое усвоено Хосровом.
Кольца Кайвана свет и весь хребет земли —
Весь мир — именовать слова его могли.
В недолгий срок во власть морские взял он недра,
Все знал он, что открыл ему учитель щедро.
К Познанью дух пришел из безраздумных дней.
В своем пути достиг он царских ступеней.
Когда же для него — пределов звездных друга —
Открылись все круги крутящегося круга, —
Он понял: долга нет отраднее, чем долг
Служения отцу, и пред отцом он молк.
Отец его любил сильнее всей вселенной,
Да что вселенная! — сильней души нетленной.
Чтоб долголетие любимый сын узнал,
У длинноруких всех он руки обкорнал.[120]
И, укрощая зло, гласил стране глашатай:
«Беда злокозненным!» — и никнул виноватый.
Гласил: «Пасти коней в чужих полях нельзя,
К плодам чужих садов заказана стезя.
Смотреть на жен чужих — срамнее нету срама.
Не пребывай в дому турецкого гуляма
Иль кару понесешь достойную». Не раз
Шах в этом поклялся, — да помнят все наказ!
Он к справедливости не погашал стремленья, —
И в эти дни земля достигла исцеленья.
И выпустило мир из рук ослабших Зло.
Не стало злых людей, спасение пришло.
Выезд Хосрова на охоту
Был весел день. Хосров, в час утренней молитвы,
Поехал по местам, пригодным для ловитвы.
Всем любовался он, стрелял зверей, и вот
Селенье вдалеке веселое встает.
И тут над розами зеленого покрова
Раскинут был ковер велением Хосрова.
Пил алое вино на травах он, и, глядь, —
Златая роза[121] вдаль уж стала уплывать.
Вот солнце в крепости лазоревой на стены
Взнесло свой желтый стяг. Но быстры перемены:
Оно — бегущий царь — алоэ разожгло.[122]
Раскрыло мрак шатра, а знамя унесло.
И под гору оно коня, пылая, гнало,
Мечами небосвод, ярясь, полосовало.
Но, ослабев, ушло, ушло с земли больной
И свой простерло щит, как лотос, над водой.
В селении Хосров потребовал приюта.
Для пира все собрать пришла теперь минута.
Он тут среди друзей ночную встретил тень,
Пил яркое вино, ночь обращая в день.
Под органона гул — о, звуков преизбыток! —
Пил аргаванный он пурпуровый напиток.
Во фляге булькал смех. Была она хмельна.
И сыну царскому с ней было не до сна.
С зарей Хосровов конь — безудержный по нраву —
Меж чьих-то тучных трав был схвачен за потраву.
А гурский нежный раб,[123] всем услаждавший взгляд,
Через ограду крал незрелый виноград.
И вот лишь солнце вновь над миром засияло
И ночи голову от тела дня отъяло, —
Уж кое-кто из тех, что носят яд в устах,
Умчались во дворец, и там услышал шах,
Что беззаконие свершил Хосров, что, верно,
Ему не страшен шах, что шепот будет скверный.
Промолвил шаханшах: «Не знаю, в чем вина».
Сказали: «Путь его — неправедность одна.
И для его коня не создана ограда,
И раб его желал чужого винограда.
И на ночь бедняка лишил он ложа сна,
И арфа звонкая всю ночь была слышна.
Ведь если бы он был не отпрыск шаханшаха, —
Он потерял бы все, наведался бы страха.
Врач в длань болящего вонзает острие,
А тело острием он тронет ли свое?»
«Меч тотчас принести!» — раздался голос строгий,
И быстрому коню немедля рубят ноги,
А гурского раба владельцу лоз дают, —
Сок розы сладостной в поток соленый льют.
Оставили в жилье, где пили в ночь охоты,
Как дар, Хосровов трон искуснейшей работы.
Арфисту ногти — прочь, чтоб голос арфы смолк,
А с арфы смолкнувшей сорвать велели шелк.[124]
Взгляни — вот древний суд, для всех неукоснимый,
Суд, даже над своей жемчужиной творимый.
Где ж правосудье днесь великое, как рок?
Кто б сыну в наши дни подобный дал урок?
Служил Ормуз огню. Свое забудем чванство!
Ведь нынешних времен постыдно мусульманство.
Да, мусульмане мы, а он — язычник был.
Коль то — язычество, в чем мусульманства пыл?
Но слушай, Низами, пусть повесть вновь струится:
Безрадостно поет нравоучений птица.
Хосров со старцами идет к своему отцу