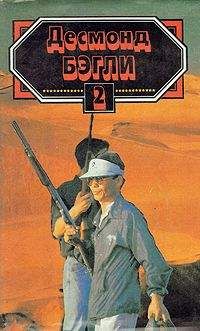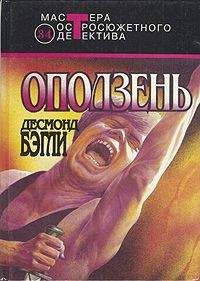Гянджеви Низами - Пять поэм
Гибель семидесяти мудрецов, не внимавших речам Хермиса
В старину мудрецы ездили в Рум, чтобы испытать свои силы в диспутах. Румийца Хермиса в диспуте никто победить не мог, он был величайшим мудрецом… Семьдесят мудрецов сговорились как-то отрицать все речи Хермиса и так сбить его с толку. Начинается диспут. Хермис трижды обращается к собранию с мудрыми речами, но в ответ слышит лишь возражения. Он догадывается, что имеет дело с тайным сговором, гневается и произносит заклинание. Все семьдесят мудрецов тут же навсегда замерли, застыли на месте. Позвали Искендера. Он одобрил действия Хермиса — ведь мудрецы встали на путь лжи и обмана, и иначе с ними поступить было нельзя. Завершают главу строки о силе истины и необходимости стремиться к ней.
Создание Платоном напевов для наказания Аристотеля
О певец, прояви свой пленяющий жар,
Подиви своей песней, исполненной чар.
Пусть бы жарче дела мои стали, чем встаре,
Пусть бы все на моем оживилось базаре.
С жаром утренний страж в свой забил барабан.
Он согрел воздух ночи, спугнул он туман.
Черный ворон поник. Над воспрянувшим долом
Крикнул белый петух криком звонким, веселым.
Всех дивя жарким словом и чутким умом,
Царь на троне сидел, а пониже кругом
Были мудрые — сотня сидела за сотней.
С каждым днем Повелитель внимал им охотней.
Для различных наук, для любого труда
Наступала в беседе своя череда.
Этот — речь до земного, насущного сузил,
А другой — вечной тайны распутывал узел.
Этот — славил свои построенья, а тот
Восхвалял свои числа и точный расчет.
Этот — словом чеканил дирхемы науки,
Тот — к волшебников славе протягивал руки.
Каждый мнил, что твердить все должны лишь о нем.
Словно каждый был миром в искусстве своем.
Аристотель — придворный в столь мыслящем стане —
Молвил так о своем первозначащем сане:
«Всем премудрым я помощь свою подаю,
Всё познают принявшие помощь мою.
Я пустил в обращенье познанья динары.
Я — вожак. Это знает и юный и старый.
Те — познанья нашли лишь в познаньях моих,
Точной речью своей удивлял я других.
Правда в слове моем. Притязаю по праву,
Эту правду явив, на великую славу».
Зная близость к царю Аристотеля, с ним
Согласились мужи: был он троном храним.
Но Платон возмутился покорным собраньем:
Обладал он один всеобъемлющим знаньем.
Всех познаний начало, начало всего
Мудрецы обрели у него одного.
И, собранье покинув с потупленным ликом,
Словно Анка, он скрылся в безлюдье великом.
Он в теченье ночей спать ни разу не лег,
Из ночных размышлений он песню извлек.
Приютился он в бочке, невидимый взорам.
Он внимал небосводам, семи их просторам.
Если голос несладостен, в бочке он все ж,
Углубляемый отзвуком, будет пригож,
Знать, мудрец, чтобы дать силу звучную руду,
То свершил, что весь мир принимал за причуду.
Звездочетную башню покинув, Платон
Помнил звезды и в звездных огнях небосклон.
И высоты, звучавшие плавным размером,
Создавая напев, мудро взял он примером.
В старом руде найдя подобающий строй
И колки подтянув, занялся он игрой.
Руд он создал из тыквы с газелевой кожей.
После — струны приделал. Со струйкою схоже
За струною сухая звенела струна.
В кожу мускус он втер, и чернела она.
Но чтоб слаще звучать сладкогласному грому,
Сотворил новый руд он совсем по-иному,—
И, настроив его и в игре преуспев,
Лишь на нем он явил совершенный напев,
То гремя, то звеня, то протяжно, то резко,
Он добился от плектра великого блеска,
И напев, что гремел иль что реял едва,
Он вознес, чтоб сразить и ягненка и льва.
Бездорожий достигнув иль дальней дороги,
Звук и льву и ягненку опутывал ноги.
Даровав строгим струнам струящийся строй,
Человека и зверя смущал он игрой.
Слыша лад, что манил, что пленял, как услада,
Люди в пляску пускались от сладкого лада.
А звуча для зверей, раздаваясь для них,
Он одних усыплял, пробуждая иных.
И Платон, внемля тварям и слухом привычным
Подбирая лады к голосам их различным,
Дивно создал труды о науке ладов,
Но никто не постиг многодумных трудов.
Каждым так повелел проникаться он строем,
Что умы он кружил мыслей поднятым роем.
А игра его струн! Так звучала она,
Что природа людей становилась ясна.
От созвучий, родившихся в звездной пучине,
Мысли весть получали о каждой причине.
И когда завершил он возвышенный труд,—
Ароматы алоэ вознес его руд.
И, закончивши все, в степь он двинулся вскоре,
Звук проверить решив на широком просторе.
На земле начертавши просторный квадрат,
Сел в средине его звездной музыки брат.
Вот ударил он плектром. При каждом ударе
С гор и с дола рвались к нему многие твари.
Оставляя свой луг иль сбежав с высоты,
Поникали они у заветной черты
И, вобравши в свой слух эти властные звуки,
Словно мертвые падали в сладостной муке.
Волк не тронул овцы. Голод свой одолев,
На онагра не бросился яростный лев.
Но поющий, по-новому струны настроя,
Поднял новые звуки нежданного строя.
И направил он так лад колдующий свой,
Что, очнувшись, животные подняли вой
И, завыв, разбежались по взвихренной шири.
Кто подобное видел когда-либо в мире?
Свет проведал про все и сказать пожелал:
«Лалов россыпь являет за ладами лал.
Так составлена песня премудрым Платоном,
Что владеет лишь он ее сладостным стоном.
Так из руда сухого он поднял напев,
Что сверкнула лазурь, от него посвежев.
Первый строй извлечет он перстами, — и в дрему
Повергает зверей, ощутивших истому.
Им напева второго взнесется волна,
И встревожатся звери, восстав ото сна».
И в чертогах царя люди молвили вскоре,
Что Харут и Зухре — в нескончаемом споре.
Аристотель, узнав, что великий Платон
Так могуч и что так возвеличился он,
Был в печали. Чудеснее не было дела,
И соперник его в нем дошел до предела.
И, укрывшись в безлюдный дворцовый покой,
Он все думал про дивный, неведомый строй.
Он сидел озадаченный трудным уроком,
И разгадки искал он в раздумье глубоком.
Проникал много дней и ночей он подряд
В лад, в котором напевы всевластно парят.
Напрягал он свой ум, и в минуты наитий
В тьме ночной он сыскал кончик вьющейся нити.
Распознал он, трудясь, — был не мал его труд,—
Как возносит напевы таинственный руд,
Как для всех он свое проявляет искусство,
Как ведет в забытье, как приводит он в чувство.
Так второй мудролюб отыскал, наконец,
Тот же строй, что вчера создал первый мудрец.
Так же вышел он в степь. Был он в сладостной вере,
Что пред ним и уснут и пробудятся звери.
И, зверей усыпив, новый начал он строй,
Чтоб их всех пробудить полнозвучной игрой.
Но, звеня над зверьем, он стозвонным рассказом
Не сумел привести одурманенных в разум.
Все хотел он поднять тот могучий напев,
Что сумел бы звучать, дивный сон одолев.
Но не мог он сыскать надлежащего лада.
Чародейство! С беспамятством не было слада.
Он вконец изнемог. Изнемог, — и тогда
(За наставником следовать до́лжно всегда)
Он к Платону пошел: вновь постиг он значенье
Мудреца, чье высоко парит поученье.
Он учителю молвил: «Скажи мне, Платон,
Что за лад расторгает бесчувственных сон?
Я беспамятство сдвинуть не мог ни на волос.
Как из руда извлечь оживляющий голос?»
И Платон, увидав, что явился к нему
Гордый муж, чтоб развеять незнания тьму,
Вновь направился в степь. И опять за чертами
Четырьмя плектр умелый зажал он перстами.
Барсы, волки и львы у запретных границ,
Властный лад услыхав, пали на землю ниц.
И тогда говор струн стал и сладким и томным,
И поник Аристотель в беспамятстве темном.
Но когда простирался в забвении он,
Всех зверей пробудил тайной песнью Платон.
Вновь напев прозвучал, возвращающий разум.
Взор открыл Аристотель. Очнулся он разом.
И вскочил и застыл меж завывших зверей.
Что за песнь прозвучала? Но знал он о ней.
Он стоял я глядел, ничего не усвоя,
Как зверье поднялось, как забегало, воя?
Аристотель, подумав: «Наставник хитер,
Не напрасно меня он в дремоте простер»,
Преклонился пред ним. С тайны ткани снимая,
Все Платон разъяснил, кроткой просьбе внимая.
Записал Аристотель и строй и лады,
И ночные свои зачеркнул он труды.
С той поры, просвещенный великим Платоном,
Он встречал мудреца с глубочайшим поклоном.
Распознав, что Платон всем премудрым — пример,
Что он прочих возвышенней, — царь Искендер,
Хоть он светлого разумом чтил и дотоле,
Высший сан дал Платону при царском престоле.
Рассказ о перстне и пастухе