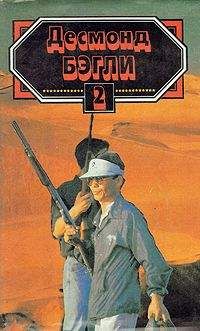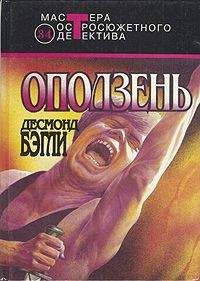Гянджеви Низами - Пять поэм
Далее Низами говорит об одном из своих покровителей — Имаде из города Хоя (в Азербайджане). Затем он рассказывает, как он трудился над поэмой, жалуется на поэтов, крадущих у него стихи, высказывает мысли о бренности всего земного и т. д.
Восхваление слова и советы царям
Традиционная глава о высоком достоинстве поэтического слова. Низами советует шахам поступать в соответствии с разумом и соблюдать чувство меры, быть справедливыми и милостивыми.
Славословие восхваляемому за восстановление Гянджи
Глава содержит восхваление второго адресата поэмы, правителя Мосула Изз-ад-дина Масуда (очевидно, Масуда II из династии Зенгидов). За ним следуют хвалы первому заказчику поэмы — Нусрет-ад-дину Бишкину Ильдигизиду — за восстановление Гянджи после страшного землетрясения, постигшего город в конце XII века.
Обращение во время целования земли
Традиционное продолжение обращения к Бишкину, содержащее советы и наставления, просьбу внимательно прочесть поэму и благосклонно принять ее и т. д.
Начало повествования
Вернувшись в Рум, Искендер забывает о пирах и веселье, он теперь стремится лишь овладеть мудростью. Он собирает и изучает греческие и иранские книги, велит перевести иранские книги на греческий язык.
На этой основе он составляет книгу — «Мироведение». В почете стали теперь в его царстве лишь мудрецы. Кроме занятий наукой, Искендер иного молится. Правит он справедливо, уничтожив в стране даже следы насилия. Его придворные делятся на шесть разрядов: воины, чародеи, ораторы, мудрецы, старцы-отшельники и пророки. В трудных случаях эти группы должны были помогать одна другой (как, например, ранее отшельник помог воинам взять крепость в Дербенте). Искендер всегда пытался решить любое дело золотом, потом, в случае неудачи, прибегал к военной силе и так далее, вплоть до помощи пророков. Глава кончается притчей, иллюстрирующей мысль о том, что тайны следует строго хранить.
О том, почему Искендера называют «двурогим»
Низами приводит несколько легендарных объяснений появления этого прозвища (ср. прим. к стр. 698). Среди них — известная античная легенда о царе Мидасе — Ослиные Уши, брадобрее и тростинке, выдавшей тайну. Кончается глава мыслью: нет такого тайного, которое не стало бы со временем явным.
Сказание об Искендере и мудром пастухе
Приходи, о певец, и зарею, как встарь,
Так захме роговым ты по струнам ударь,
Чтоб ручьи зажурчали, чтоб наши печали
Стали сном и к мечтаниям душу умчали.
Так промолвил прекрасный сказитель былой,
Не имеющий равных за древнею мглой:
В румском поясе царь и в венце из Китая
Был на троне. Сияла заря золотая,
Но нахмурился царь, наложил он печать
На улыбку свою, ей велев замолчать.
Обладал он Луной, с солнцем блещущим схожей,
Но она в огневице сгорала на ложе.
Уж мирских не ждала она сладостных чар.
К безнадежности вел ее тягостный жар.
И душа Искендера была уж готова
Истомиться от этого бедствия злого.
И велел он, исполненный тягостных дум,
Чтоб явились все мудрые в царственный Рум.
Может статься, что ими отыщется мера
Исцелить и Луну, и тоску Искендера.
И наперсники власти, заслышавши зов,
Притекли под ее милосердия кров.
Сотворили врачи нужных зелий немало,
Все же тело Луны, изнывая, пылало.
Рдело красное яблочко, мучась, горя.
В мрачной горести хмурились брови царя.
Был он сердцем привязан к пери́ луноликой,
Потому и томился в тревоге великой.
И, с престола сойдя, царь на кровлю взошел,
Будто кровля являла спокойствия дол.
Обошел он всю кровлю, и бросил он взоры
На окрестные степи и дальние горы.
И внизу, там, где степь расстилалась, тиха,
Царь увидел овец, возле них — пастуха:
В белой шапке, седой, величавый, с клюкою
Он стоял, на клюку опираясь рукою.
То он даль озирал из конца и в конец,
То глядел на траву, то глядел на овец.
Был спокойный пастух Искендеру приятен,—
Так он мудро взирал, так плечист был и статен.
И велел государь, чтобы тотчас же он
Был на кровлю к престолу царя приведен.
И помчалась охрана, чтоб сделать счастливым
Пастуха, осененного царским призывом.
И когда к высям трона поднялся старик,
Пурпур тронной ограды пред смертным возник.
Он пред мощным стоял Искендеровым валом,
Что о счастье ему говорил небывалом.
Он склонился к земле: был учтив он, и встарь
Не один перед ним восседал государь.
Подозвал его царь тихим, ласковым зовом.
Осчастливив его государевым словом,
Так сказал Искендер: «Между гор и долин
Много сказов живут. Расскажи хоть один.
Я напастью измучен, и, может быть, разом
Ты утешишь меня многомудрым рассказом».
«О возвышенный, — вымолвил пастырь овец,—
Да блестит над землею твой светлый венец!
Да несет он твой отблеск подлунному миру!
Дурноглазый твою да не тронет порфиру!
Ты завесу, о царь, приоткрой хоть слегка.
Почему твою душу сдавила тоска?
До́лжно быть мне, о царь, сердце царское зрящим,
Чтоб утешить рассказом тебя подходящим».
Царь одобрил его. Ведь рассказчик найти
Нужный корень хотел на словесном пути,
А не тратить речей о небес благостыне
Иль о битвах за веру, как житель пустыни.
Царь таиться не стал. Все открыл он вполне.
И когда был пастух извещен о Луне,
До земли он вторично склонился, и снова
Он молитвы вознес благодатное слово.
И повел он рассказ: «В давних, юных годах
Я Хосроям служил и, служа при царях,
Озарявших весь мир ярким праздничным светом,—
Тем, которым и я был всечасно одетым,
Знал я в Мерве царевича. Был его лик
Столь прекрасен, а стан словно стройный тростник.
Был красе кипарисов он вечной угрозой,
А ланиты его насмехались над розой.
И одна из пленительниц спальни его,
Та, что взору являла красы торжество,
Пораженная сглазом, охвачена жаром,
Заметалась в недуге настойчивом, яром.
Жар бездымный сжигал. Ей уж было невмочь.
Ни одно из лекарств не сумело помочь.
А прекрасный царевич, — скажу я не лживо:
Трепетал кипарис, будто горькая ива.
Увидав, что душа его жаркой души
Будто молвила смерти: «Ко мне поспеши!» —
И, стремясь не испить чашу горького яда,
На красотку не бросив померкшего взгляда,
Безнадежности полный, решил он: в пути,
Что из мира уводит, покой обрести.
За изгибами гор, что казались бескрайны,
Был пустыни простор, — обиталище тайны.
В ней пещеры и бездны. По слову молвы,
Там и барсы таились, и прятались львы,
В этой шири травинку сыскали б едва ли,
И Пустынею Смерти ее называли.
Если видел на свете лишь тьму человек,
В эту область беды он скрывался навек.
Говорили: «Глаза не узрели доныне
Никого, кто б вернулся из этой пустыни».
И царевич, теряющий розу свою,
Все хотел позабыть в этом страшном краю.
Но, смятенный любимой смертельным недугом,
Был царевич любим благодетельным другом.
Ведал друг, что царевич, объятый тоской,
Злую смерть обретет, а не сладкий покой.
Он лицо обвязал. Схож с дорожным бродягой,
На царевича меч свой занес он с отвагой.
И не узнанный им, разъяренно крича,
Он свалил его наземь ударом сплеча.
С6ив прекрасного с ног, не смущаясь нимало,
На царевича лик он метнул покрывало.
И, схвативши юнца, что стал нем и незряч,
На коне он в свой дом с ним направился вскачь.
А домой прискакав, что же сделал он дале?
Поместил он царевича в темном подвале.
Он слугу ему дал, но, спокоен и строг,
Приказал, чтоб слуга крепко тайну берег.
И царевич злосчастный, утратив свободу,
Только хлеб получал ежедневно и воду.
И, бессильный, глаза устремивший во тьму,
С пленным сердцем, от страсти попавший в тюрьму,
Он дивился. Весь мир был угрюм и неведом.
Как, лишь тронувшись в путь, он пришел к этим бедам?!
А царевича друг препоясал свой стан
В помощь другу, что страждал, тоской обуян.
Соки трав благотворных раздельно и вместе
Подносил для целенья он хворой невесте,
Он избрал для прекрасной врача из врачей.
Был в заботе о ней много дней и ночей.
И от нужных лекарств лютой хворости злоба
Погасала. У милой не стало озноба.
Стала свежей она, как и прежде была.
Захотела пройтись, засмеялась, пошла.
И когда в светлый мир приоткрылась ей дверца,
Стала роза искать утешителя сердца.
Увидав, что она с прежним зноем в крови
Ищет встречи с царевичем, ищет любви,—
Друг плененного, в жажде вернуть все былое,
В некий вечер возжег в своем доме алоэ.
И, устроивши пир, столь подобный весне,
Он соперницу роз поместил в стороне.
И затем, как слепца он, сочувствуя страсти,
Будто месяц изъяв из драконовой пасти,
Сына царского вывел из тьмы. С его глаз
Снял повязку, — и близок к развязке рассказ.
Царский сын видит пир — кравчих, чаши, и сласти,
И цветок, у которого был он во власти.
Так недавно оставил он тягостный ад,
Рай и гурию видеть, — о, как был он рад!
Как зажегся он весь! Как он встретил невесту!
Но об этом рассказывать было б не к месту!»
И когда царь царей услыхал пастуха,
То печаль его стала спокойна, тиха.
Не горел он уж тяжким и горестным жаром,
Ведь вином его старец попотчевал старым.
Призадумался царь, — все творят небеса…
Вдруг на кровлю дворца донеслись голоса.
Возвещали царю: миновала угроза,
Задышала свободно, спаслась его роза.
И пастух пожелал государю добра.
А рука Искендера была ль не щедра?
Лишь о тех, чья душа чистым блещет алмазом,
Мы поведать могли бы подобным рассказом.
От благих наши души сияньем полны,
Как от блеска Юпитера или Луны.
Распознает разумный обманные чары,
Настоящие вмиг узнает он динары.
Звуку чистых речей ты внимать поспеши.
В слове чистом горит пламень чистой души.
Если в слове неверное слышно звучанье,
Пусть на лживое слово ответит молчанье.
Сказание об Архимеде и китаянке