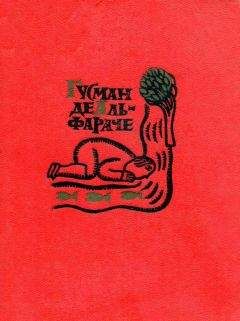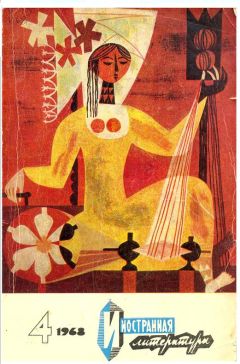Матео Алеман - Гусман де Альфараче. Часть вторая
Итак, свекровь и невестка поселились под одной крышей. Вы уже знакомы с моей матушкой — если не в лицо, то по ее добрым делам; самой умной женщине в мире пришлось бы признать ее превосходство; она прошла отличную жизненную школу и за долгие годы накопила большой опыт.
Она давала моей жене мудрые советы, увещевая не принимать у себя городских щеголей, которые не только наносят ущерб доброму имени, но и вообще, как она выражалась, подобны дождю в Иванов день: губят у людей добро, а сами добра не приносят; пообедав у себя дома и не зная, как убить время, они являются к вам в гости, требуют, чтобы их занимали разговором, сидят до поздней ночи, — три дурня посеребренные, а четвертый и вовсе медяк! — и все это на том лишь основании, что живут по соседству.
О пажах из богатых домов и о студентах она отзывалась не более лестно: эти, словно воронье, издалека чуют добычу, слетаются на падаль, и вся их забота — клевать. А уж о женатых мужчинах не следовало и помышлять: матушка настоятельно советовала запирать от них двери. Нет врага беспощадней, чем ревнивая жена: законная супруга, обуреваемая ревностью, способна на все; вы еще легко отделаетесь, если она только потащит вас в суд, а стоит ей там разок всхлипнуть да два раза всплакнуть — и вот уже весь город забурлил, и доброе имя погибло.
Так матушка учила уму-разуму мою жену, руководила всеми ее поступками, управляла ею умно и ловко, ибо познала законы жизни еще в утробе своей матери. Она всюду сопровождала невестку, ни разу не отпустила ее одну ни на молебствие, ни на празднество или гулянье. Нередко они возвращались домой в сопровождении двуногих мопсиков и пуделей из числа тех, кого матушка считала подходящими: прожив в городе столько лет, она насквозь видела местных шалопаев и знала всю их подноготную.
Франтов же и хлыщей она не пускала в дом ни под каким видом. Ведь они воображают, что ради их буклей, крахмальных воротников, румяных щек и прочих прелестей все обязаны угождать им и оказывать почет. Но особенно ревностно оберегала она мою жену от разбойников с площади святого Франциска;[166] этих она боялась пуще огня. Все они поголовно, начиная от секретаря суда и кончая смотрителем судейского архива, считают, что им все дозволено и полагается по закону. Тем не менее ускользнуть от них не удалось; добром или силой, посулами или угрозами, путем или не путем (последнее, разумеется, в виде исключения), а уж своего они добьются и будут над вами тиранствовать не хуже Тотилы или Дионисия[167], словно и у самого господа бога нет на них управы.
Между тем флотилия с продовольствием запаздывала, в городе начался голод, и мы положили зубы на полку, распродавая, проедая и отдавая в залог свое добро. Пришлось нам очень худо, и не только от голода; соседи не давали нам прохода и на каждом шагу срамили то меня, то мою жену. Всякий проходимец считал себя вправе попрекать нас то сеньором Иксом, то доном Имяреком; жена моя постоянно дрожала от страха и к тому же тяготилась надзором свекрови: со мной она привыкла к полной свободе, а теперь очутилась под строгим присмотром и не могла шагу ступить по своей воле. Стоило одной сказать слово, как другая выкрикивала десять. Из пустяка получался целый скандал. Не желая становиться ни на чью сторону, я хватался за плащ и выбегал на улицу, едва замечал, что дельфины всплывают на поверхность. Лучше было уйти из дому, чем смотреть, как они вцепятся друг другу в чепцы.
Жена моя была поражена в самое сердце тем, что я за нее не заступаюсь: помогай бог нашим, а кто прав, кто виноват — неважно! Она считала, что я обязан выступить против матушки, я же не мог на это пойти. И вот жена меня возненавидела; я стал ей так противен, что при первом же удобном случае она променяла меня на капитана неаполитанской галеры, стоявшей в нашем порту, прихватила все деньги, золото и серебро и отчалила к италийским берегам. С тех пор я ничего о ней не знаю.
Слыхал я от кого-то, что только дурак станет искать сбежавшую жену: врагу — скатертью дорога. И это верно: лучше странствовать одному, чем с худым спутником. Правда, сам я потворствовал ее разврату и тем кормился, но уж и мне надоело терпеть, что всякий встречный и поперечный плюет мне в глаза. Вот что значит дурная привычка! Я с малолетства подличал и проглатывал оскорбления, таким был в детстве и юности, а потому и в зрелости с этим мирился.
Жена меня покинула. Спасибо и на том. Больше не надо допускать в своем доме разврат и творить каждодневный грех. Я ее не выгонял: она сама ушла, а ехать вдогонку я не мог — в Италии для меня было слишком опасно.
Зажили мы с матушкой вдвоем. Продали все, что у нас оставалось, однако дней впереди было куда больше, чем ценностей, и вскоре наш запас совсем истощился.
Так и получилось, что Иванов день совпал у меня с днем тела господня[168]. Продавать было нечего, покупать не на что. Я весь обносился, нового платья не имел и купить не мог; пришлось обратиться к старинному моему мастерству.
По ночам я стал выходить на перекрестки и возвращался домой с двумя или тремя плащами на плечах, добытыми без лишнего шума и по возможности без риска. Под утро они с нашей помощью превращались в полукамзолы, и мы отдавали их продать на базаре или сбывали с рук каким-нибудь другим способом.
Ремесло сие было матушке не по душе; она никогда подобными делами не занималась и боялась опозорить себя на старости лет. Уж лучше было вернуться к девушке, с которой она жила прежде; та приняла ее с великой радостью, словно с нею вновь обрела покой и безопасность.
Я же нашел себе сотоварищей и в ожидании лучших времен зажил с ними своей прежней жизнью. Они учились у меня высшим тайнам воровского дела, а иногда я и сам выходил с ними на промысел. Мы обошли все окрестные деревни и селения, всегда находя на заднем дворе чем поживиться; особенно охотно брали мы свежевыстиранное белье, каковое уносили вместе с корзиной. В предместьях и в Триане[169] у нас были испытанные дома, где можно было переночевать, когда не следовало появляться в городе; дождавшись полуночи (к этому часу городская стража заканчивала обход), мы развешивали добычу для просушки на воротах или на каменной ограде.
Вещи из сукна или шелка мы переправляли к знакомым перекупщикам и брали за них хорошую цену. Старьевщики понимали, что перед ними трофеи, добытые в бою и требующие военной маскировки; им же несдобровать, если вещи будут опознаны. Наше дело было доставить товар на место в полном порядке, в целости и сухости, свободным от всякой пошлины, а прочее нас не касалось.
Зато с нижним бельем было и просто и легко. По вечерам мы сбывали его в ветошном ряду и этим честно кормились; все шло прекрасно.
Зима выдалась дождливая; в течение многих дней жители почти не выходили на улицу, и проникнуть к ним в дом стало трудно. Деньги у нас кончились. Однажды, бродя по улице, я заметил полуобвалившийся дом и спросил, кто тут живет. Мне ответили, что дом этот принадлежит некоей вдове. Я пошел к этой сеньоре и сказал, что желал бы поселиться в ее пустующем доме и кстати мог бы исполнять обязанности сторожа. Беспокоясь, что дом может вдруг обвалиться и задавить меня, она советовала хорошенько подумать, прежде чем селиться под крышей, готовой рухнуть. Но я заверил ее, что это не имеет значения; в доме есть большая, вполне надежная комната, где отлично можно жить, а бедняки ничего не боятся, ибо им нечего терять, и самая жизнь им в тягость. Она согласилась, и скоро в доме ее не осталось ни дверей, ни замков — я все снял и на следующий день отправился на площадь святого Сальвадора и объявил, что могу продать желающим четыре или пять тысяч штук черепицы. Черепицу в то время нельзя было достать ни за какие деньги. Ко мне ринулась целая толпа каменщиков, и самый расторопный, успевший подбежать раньше других, был вне себя от радости, что совершил такую прекрасную сделку. Мы сторговались на пяти мараведи за штуку, затем я повел его на место, показал крышу и заявил, что я управляю делами домовладелицы и получил от хозяйки приказание снять черепицу и покрыть дом плоской крышей. Мы подсчитали черепицу, причем я разрешил учесть и соседние крыши. Мне уплатили в виде задатка шестьсот реалов, а общая стоимость достигла по нашим подсчетам пяти тысяч; мы условились, что рабочие придут снимать черепицу на следующий день. Получив задаток, я отправился к хозяйке и сказал ей:
— Какая жалость, что вы приказали вашему управляющему снять двери и крышу и пустить на продажу.
Она всполошилась и начала уверять меня, что у нее нет никакого управляющего и она никому не давала такого распоряжения. Я же сказал:
— Не знаю, ваша милость, кто об этом распорядился, а только меня выгнали из вашего дома, я переезжаю на другую квартиру, потому что завтра утром придут за черепицей. Пошлите туда кого-нибудь или пойдите посмотрите сами и вы увидите, что там делается.