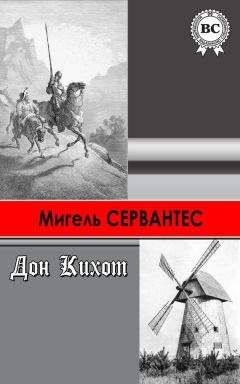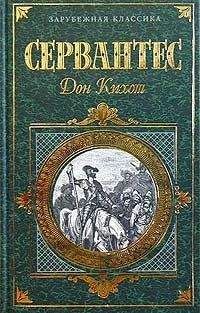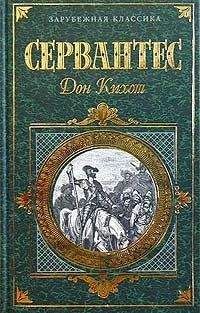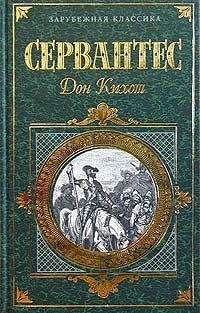Карл Мориц - Антон Райзер
В таком-то настроении сочинил он, стоя на этой полуразрушенной стене, нижеследующее стихотворение:
О, что за приют священный, покоя вечного вестник?
Какое мне тайное чувство глаза наполняет слезами,
Когда на тебя смотрю я? И ты, о старец почтенный,
Пристанища тихого житель, будь счастлив – толпы презренной
Тщеты и кривлянья пустого ты удалился разумно
И можешь теперь спокойно сад свой возделывать скромный,
Ты душу свою, что часто в благом порыве стремится
Бежать из темного плена, с каждым днем подымаешь
Все ближе и ближе к небу. – Возрадуйся! Благословенен
Приют твой уединенный, и дух твой, давно отвыкший
От мыслей земных, взлетает, подобно Ангелу, в небо
И празднует возвращенье в свою родную обитель.
О, старец! То был твой жребий. – Но ты, кто еще не окончил
Свой путь, что полон лишений, кто сил не успел растратить,
Иль ты, о юнец цветущий, что выбрал из радостей жизни
Уединенную келью, – быть может, ты был обманут
Друзьями иль сделался целью их грубых и подлых насмешек?
А может быть, ты вдруг понял, что все мечты и надежды
Гроша не стоят? И место безлюдное это тебе
Убежищем служит от мира, что для тебя превратился
Из рая цветов и веселья в унылую серую пустошь?
Тогда возрадуйся тоже! Нашел ты оплот надежный,
Тебя от зла и коварства, от глупости и лицемерья,
Страстей и измен хранящий – всего, что мирскою жизнью
Привычно мы называем. – Но что это? Что я вижу?
Слеза дрожит на ресницах и по щеке стекает
У юноши, что рыдает над жизнью своей пропащей
И, словно цветок, увядает осенней дождливой порою.
О ты, что в священной темнице, склонясь под невзгодами, гаснешь,
Куда даже солнца лучик на радость тебе не проникнет.
О юноша, плачь безутешно! Господь простит эти слезы,
Которые льются невольно, души отражая смятенье!
О, как бы я свои слезы с твоими смешать желал бы,
Чтоб сладкий бальзам утешенья пролить в твою бедную душу!
Смотри, как закат блаженно весенним вечером тает,
Лучи янтарного солнца коснулись окна твоей кельи,
Где ты лежишь безмятежно, мечтая о днях грядущих,
Прекрасных видений полных, плывешь в золотом тумане
По лабиринтам счастья, но, от дремоты очнувшись,
Видишь опять свою келью, четыре стены пустые,
Где лишь безнадежность и скука… Зефир, шелести крылами
Над этой обителью горя, овей прохладою щеки,
От слез еще влажные, пышно цветите в саду его, розы,
И под окошком чуть слышно пой свою песнь, Филомела,
Пока не избавит Всевышний от тяжкого бремени жизни
Так долго страдавшую душу – тогда ночною порою
Ты долго скорбеть еще будешь над юноши бедной могилой.
Райзер так сильно прилепился душой к картезианцам, что стал всерьез обдумывать, как вместе с ними будет проводить свои дни вдали от мира, раз и навсегда отрешившись от желаний и страстей, от всего, что его угнетало и мучило.
Он пребывал в этих мыслях уже несколько дней, когда явился Окорд и сообщил, что эрфуртские студенты собираются ставить какую-то пьесу и несколько ролей в ней еще не заняты.
Это известие так взбудоражило воображение Райзера, что образ картезианского монастыря с его высокими стенами сразу побледнел, зато кулисы и театральные огни снова заиграли яркими красками; когда же Окорд прибавил, что одну роль в будущем спектакле рассчитывают предложить Райзеру, все возвышенное и меланхолическое мгновенно улетучилось из его мыслей.
Пьеса, которую готовили к постановке эрфуртские студенты, называлась «Медон, или Месть мудреца» и, можно сказать, содержала в себе всю мораль, столь поразительна была добродетель всех ее персонажей.
В этой пьесе Райзеру предложили сыграть Клелию, возлюбленную Медона, поскольку щетина у него на подбородке пробивалась еще совсем незаметно и его рост также не мог служить препятствием для исполнения женской роли, так как студент, игравший Медона, был настоящий великан. Несмотря на неожиданную странность этого предложения, Райзер не смог противиться своему желанию так или иначе пробиться на сцену, тем более что этот случай представился ему сам собой, без всяких его усилий.
Между тем доктор Фрорип написал письмо в Ганновер с запросом о поведении Райзера к бывшему его учителю ректору Зекстро, у которого он некоторое время жил, и ректор, против всякого ожидания Райзера, дал ему аттестацию, еще более укрепившую благосклонность к нему Фрорипа.
Ректор Зекстро писал, что задатки этого юноши позволяют ожидать от него очень многого, и этого оказалось достаточно, чтобы доктор Фрорип снисходительно и терпимо отнесся к указанным далее недостаткам Райзера и умножил свои усилия, дабы по возможности вернуть ему расположение принца.
Надо сказать, однако, что и сама аттестация была составлена в тоне снисходительном и терпимом, исключая упоминание о ночных прогулках Райзера, наталкивающих на подозрение в распущенности, пороке, в коем он был неповинен ни сном ни духом, поскольку угнетенность его положения, презрение к себе да и мечтательность натуры уберегали его от этого.
Далее было сказано о пристрастии Райзера к театру, чему небезосновательно приписывались различные его выходки и чему было подвержено так много молодых учеников Ганноверской школы.
И как раз когда пришло это письмо, Райзер готовился выступить на сцене в студенческом спектакле. Доктор Фрорип попытался было отговорить Райзера от этой затеи, однако, видя, как страстно тот ею завлечен, отнесся снисходительно и к этому его безрассудству и отнюдь не лишил Райзера своего расположения.
Наконец все приготовления были закончены, Райзер выучил роль Клелии наизусть и за время многочисленных репетиций близко познакомился с большинством эрфуртских студентов, которые отнеслись к нему с большой учтивостью, составив о нем самое высокое мнение, из-за чего Райзер оказался перенесен в мир, разительно несхожий с тем, что был привычен ему с детства.
За всеми этими репетициями Райзер не забывал прилежно посещать проповеднические классы доктора Фрорипа в Купеческой церкви, где несколько студентов в присутствии доктора Фрорипа и своих товарищей, при закрытых дверях, упражнялись в произнесении проповедей.
Старательность Райзера объяснялась его желанием прилюдно проявить себя в декламации, и он с особым нетерпением ждал того дня, когда доктор Фрорип позволит ему подняться на кафедру. Он заранее выбрал и тему, намереваясь в поэтических красках описать красоту природы, смену времен года и с пафосом завершить проповедь, открыв слушателям сияющий и лучезарный простор вечной жизни. Однако ему все время что-то мешало, и в Эрфурте это желание так и не осуществилось.
Людям вообще свойственно сомневаться в том, что их самые страстные мечты когда-нибудь сбудутся, так же и Райзер не был уверен, что означенная пьеса действительно будет поставлена и он сыграет в ней роль. Но его мечта сбылась. Он был со всем тщанием наряжен Клелией, светильники зажглись, занавес взвился, и вот он уже стоит перед заполненным залом и совершенно непринужденно играет свою длинную роль, ни разу не вспомнив о ее ненатуральности, столь глубоко он был захвачен мыслью, что наконец-то в самом деле играет на сцене и в эту минуту его участие всем необходимо.
Благодаря такой сосредоточенности он забыл о себе, да и зрители почти не обратили внимания на неестественность его роли и даже остались довольны его игрой. То, что он, выйдя на сцену, по-прежнему оставался студентом, усугубляло его удовольствие, и следующие дни при воспоминании об этом вечере он чувствовал себя настолько счастливым, что прочее случившееся с ним в Эрфурте за все недели его пребывания в этом городе предстало ему как бы во сне.
Время от времени он помещал в еженедельнике «Горожанин и крестьянин» какое-нибудь стихотворение, чем как автор сделал себе имя среди жителей Эрфурта. Он также держал корректуру у типографа Градельмюллера, и тот познакомил его с одним ученым, который, при всех редких качествах своего ума и сердца, до самой смерти оставался игралищем злой судьбы, так как долгое и неотступное давление обстоятельств не позволило ему представить свои достоинства в выгодном свете и даже энергия, необходимая, чтобы прочно утвердиться в этом мире и занять в нем свое место, у него иссякла.
Этот доктор Зауэр издавал у типографа Градельмюллера еженедельный журнал под названием «Медон, или Три друга», выходивший уже целый год. По этому также было видно, как он боролся с превратностями жизни и каких трудов ему стоило кропать заурядные статьи, в коих тем не менее всегда проглядывала искра угнетенного гения.