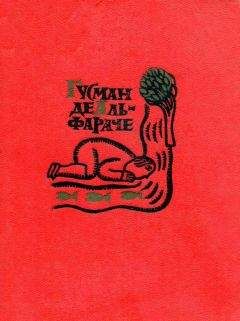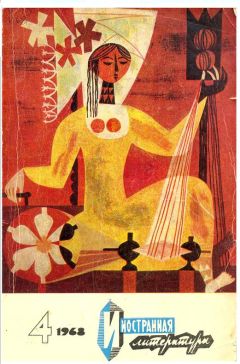Матео Алеман - Гусман де Альфараче. Часть вторая
О мать Алькала! Как тебя воспеть? Сумею ли замкнуть свои уста, чтобы не оскорбить тебя недостойной речью, и где найду нужные слова, коли молчать я не в силах! Редко встретишь там студента, настолько нерадивого или предавшегося пороку, чтобы, позабыв главную цель, он пренебрег бы своими обязанностями — это у нас считалось позором. О сладкое студенческое житье! Приятно вспомнить, как мы, бывало, «наряжали епископа»[152], глумились над новичками, окружали их кольцом и обстреливали плевками, били палкой, вымогали вступительный взнос, отбирая последнюю книгу и снимая с плеч сутану! А сколько было треволнений с выбором старосты, как мы подтасовывали голоса, сколько хлопотали, чтобы заручиться лишним сторонником, как боролись за честь своего землячества!
А потом, когда запаздывал обоз с продовольствием из родных мест, все скопом несли свою одежду в заклад: одни шли в булочную, другие в бакалейную лавочку; растрепанный Скот попадал к пирожнику, Аристотель без переплета — к кабатчику; кольчугу отправляли под тюфяк, шпагу под кровать[153], щит — на кухню, к печным заслонкам и крышкам от кастрюль. Да что говорить! Была ли в городе хоть одна кондитерская, где бы мы не оставили чего-нибудь в залог, когда нам переставали верить в долг?
Таким-то манером среди разнообразных увеселений прошел я курс богословия, и в конце последнего года, когда я уже готовился стать бакалавром, понесли меня грехи в воскресный вечер на ромерию[154] в Санта-Мария-дель-Валь. Бывают в жизни такие гулянья, что лучше бы ты сидел дома со сломанной ногой. С этого дня начались мои несчастья, тут поднялась та буря, которая разбила мою жизнь, развеяла состояние и погубила честь.
Отправился я туда с единственной целью посетить святую обитель божью. Но, войдя в церковь, я увидел в толпе несколько молодых и весьма миловидных женщин. По привычке, думая же совсем о другом, подошел я к чаше со святой водой, опустил в нее пальцы и окропил лоб; но глаза мои, словно прикованные к этим женщинам, ни разу не обратились ни к алтарю, ни к чаше со святыми дарами. Я преклонил колено, выставив другую ногу вперед, точно арбалетчик в засаде, осенил себя вместо крестного знамения какой-то торопливой закорючкой и сразу же направился туда, где находились мои красотки. Но они уже встали и, выйдя из церкви, пошли вдоль по тополевой аллее к берегу реки, выбрали там удобную лужайку и уселись, словно на ковре, на зеленой травке.
Я шел за ними следом, видел, где они расположились, и издали наблюдал, как, немного отдохнув, они начали доставать из рукавов взятые с собой закуски; тут я к ним и подошел. Общество состояло из вдовы-трактирщицы с двумя дочками, прекрасными, как Кастор и Поллукс[155], и их подружек, молодых девушек, исполненных прелести и грации. Но та, что носила имя Грация — старшая дочь трактирщицы, — настолько превосходила остальных красотой, что всех затмевала; они были звезды этого небосклона, а моя Грация сияла среди них подобно солнцу.
В Алькала меня все знали: я жил там уже семь лет, одевался всегда хорошо, считался одним из лучших студентов университета и слыл богачом. Девушки были большие насмешницы и хохотушки. Они приступили к закуске; я напросился к ним в компанию и, весело посмеиваясь, снял шляпу. Но лучше бы я не обнажал свой лоб, ибо его вскоре снабдили двумя такими ветвистыми украшениями, что и шляпа не могла их скрыть.
Впрочем, оставим пока сей предмет; прежде чем продолжать повествование, я хотел бы уведомить вас, что расходы на обучение, а именно: на книги, экзамены и университетское одеяние, привели к тому, что я потратил ровно столько, сколько имел. Деньги у меня еще были, но мало, слишком мало для посвящения в сан, а я не мог получить степень бакалавра богословских наук до того, как стану священником, что было никак невозможно для человека, не имевшего капеллании[156]. У меня не оставалось другого выхода, как обратиться за помощью к тестю; он поддерживал со мной дружбу, которой до сих пор ни разу не изменил.
Он подбодрил меня и дал не только добрый совет, но и средства к его исполнению; если человек может помочь и советом и делом, то было бы недостойно ограничиться одним советом и не оказать помощи. Тесть обещал передать мне в пользование приданое моей покойной жены, чтобы на эти деньги я основал капелланию в память о ней, а сам подписал бы контррасписку, которая содержала бы указание на истинную принадлежность денег, а также обязательство вернуть их по первому требованию. Вот вам и еще один пример злоупотребления контррасписками: через них нарушаются установления святых соборов, и все это совершенно открыто; никто не боится гнева церкви и наказания за столь явную симонию.
Боже правый! Не пора ли пресечь сие вопиющее зло! Но не будем рвать нить нашего повествования. Я горячо поблагодарил тестя и поцеловал ему руку, восхищенный тем, как охотно он шагает со мной плечом к плечу, сопровождая по дороге в ад. А что, разве это не правда?
Я уже слышу ваш ответ: нечего, мол, тебе соваться не в свое дело и судить вкривь и вкось о разных предметах. Просто я не мог удержаться, а лучше бы удержался.
— Эх, брат Гусман, твое ли это дело? Или тут есть для тебя какая-нибудь польза иль корысть?
— Это верно: чего нет, того нет.
— Неужели ты воображаешь, что первый заметил зло или что ты последний, кому придется о нем говорить? Занимайся своими делами, говори о том, что тебя касается: как ты подсел к девушкам и прервал их завтрак, а с ним вместе и повествование. Обратись же к своим делам. А высокие материи оставь для тех, кому они по зубам.
— Ты прав, не спорю; а раз я признал твою правоту, будь и ты снисходителен, прости мне провинность, и вернемся к моей истории.
Итак, я был, как ты уже знаешь, студентом последнего курса и основал капелланию, чтобы иметь право на ученую степень, а тем временем готовился через три месяца принять сан. Был уже февраль месяц; посвящение в сан приходилось на первый весенний пост, а присуждение ученых степеней на начало мая.
Приглянувшаяся мне девушка всем взяла: язычок у нее был острый, глаз зоркий и имя тоже подходящее — это была воплощенная грация, и все музы и грации вместе взятые не могли бы одержать над нею верх. Она соединяла в себе все женские прелести; лицом была так хороша, что нет слов описать ее красоту, лучше уж промолчать; она умела петь, весьма искусно играла на гитаре, притом была находчива и приятна в обращении, ум имела быстрый, а глазки такие живые и веселые, что улыбка расцветала там, куда они обращались.
Я вперил взор в ее очи, и молнии наших взглядов, скрестившись в глубине, впились нам в души. Я понял, что нравлюсь, — она убедилась, что любима. Сердцем моим она завладела вполне и видела это по моим глазам. Но уста молчали; я не сказал ей ни слова, только просил оказать мне милость и позволить присоединиться к их трапезе. Каждая из девушек предложила мне часть своего завтрака, и все в один голос упрашивали принять угощение.
Поблагодарив за любезность, я разостлал свою мантию, уселся на ней и позавтракал на славу, ибо угощали меня наперебой. От избытка благодарности я не мог не пить в ответ на их тосты, и вместо закуски получился изрядный ужин. Когда с едой было покончено, одна из служанок вытащила из-под накидки гитару. Грация, со всей свойственной ей грацией, подала мне ее из рук в руки и попросила сыграть, потому что подружкам ее хотелось потанцевать. Все они танцевали изящно и красиво, но лучше всех моя избранница; и я предался любви всей душой.
Утомившись, они присели отдохнуть, и тогда я отдал гитару той, из чьих рук ее получил, и стал просить, чтобы она что-нибудь спела. Красавица согласилась без всякого жеманства; она настроила гитару и запела так, что время словно остановилось; я не заметил, как прошли часы и стало темнеть.
Пора было возвращаться домой. Я проводил своих новых приятельниц до самого дома, не выпуская из руки ручку моей красотки. Сначала я робел и не знал, с чего начать; она заметила мое смущение и, не то нарочно, не то нечаянно, вдруг споткнулась и чуть не потеряла с ноги чапин;[157] я протянул руки, чтобы подхватить ее, и она почти упала в мои объятия; лица наши соприкоснулись. Когда она выпрямилась, я взял вину на себя и сказал, что, верно, сглазил ее, так как слишком упорно на нее смотрел.
Она ответила так ловко, что я не мог не поддержать разговора и отважился слегка пожать ей руку. Она рассмеялась и сказала, что давить бесполезно, все равно ничего из ее руки не выдавишь. Я осмелел и стал бойчее на язык; мы немного отстали от других, так как она не могла идти быстрей, и стали говорить о нашей любви, — вернее, я о своей, а она в ответ смеялась, будто принимая все за шутку.
Матушка ее была женщина сообразительная; она охотилась за зятьями, а дочки ее за женихами. Я был хороший жених. Они дали мне получше заглотнуть крючок, позволили проводить до самого дома, а там пригласили и зайти. В жилище у них все было опрятно и привлекательно. Мне пододвинули стул, усадили, поставили на стол банку с вареньем, подав к нему воду в кувшине. Холодная вода — вот в чем более всего нуждалось мое сердце, отравленное любовным ядом. Но, увы, и это средство не помогло.