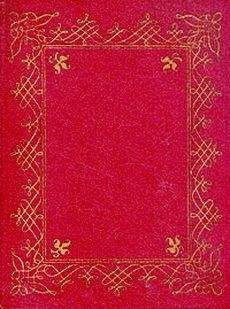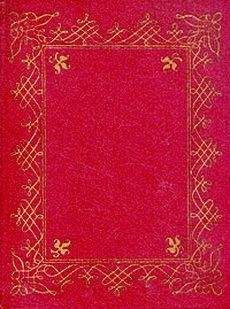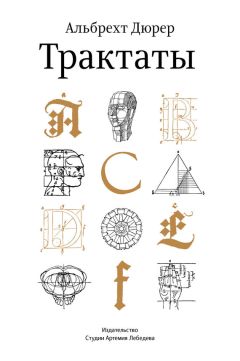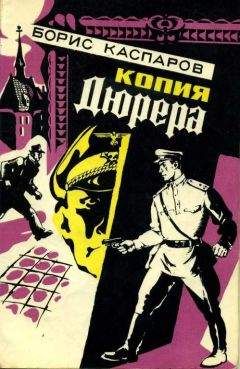Франко Саккетти - Новеллы
Рыцарь де'Барди сказал на это: «Он может вооружаться и делать, что ему угодно, но я не такой человек, чтобы сражаться, и делать этого не собираюсь».
В конце концов после долгих разговоров подеста сказал: «Ну, ладно! Переведем это на флорины, и пусть честь будет на одной из сторон. Если он хочет, чтобы я продолжал свой путь, как я его начал, то я немедленно сделаю это. Если он желает требовать, чтобы я не носил его нашлемника, то клянусь святым божественным евангелием, что нашлемник мой был сделан для меня во Флоренции живописцем Лукино[412] и стоил мне пять флоринов. Если же ему угодно, то пусть он присылает пять флоринов и берет себе нашлемник».
С таким ответом вернулись посланные к мессеру Шиндигеру, который, выслушав, зовет одного из своих слуг, приказывает выдать пять новеньких дукатов и велит слуге сходить за нашлемником. Это было сделано. Посланные передали пять флоринов; рыцарь взял их честь честью и отдал нашлемник, который посланные, покрыв его плащом, отнесли к мессеру Шиндигеру, принявшему его с таким чувством, будто он одержал победу над целым городом. Что же до подеста, отправлявшегося в Падую и оставшегося без нашлемника, то он велел поискать по всей Ферраре, не найдется ли какого-нибудь нашлемника, который он мог бы взять с собой взамен прежнего с медведем. Случайно у одного живописца нашелся нашлемник с обезьяной до пояса, одетой в желтое платье с мечом в руке. Когда нашлемник этот, прикрыв его, доставили подеста, один из его судей сказал ему: «Вам повезло, как никогда на свете. Прикажите взять от обезьяны этот меч и взамен его дать ей в руки красную мотыгу: она будет вашим гербом».
Подеста совет понравился, и так и было сделано, что обошлось в общем, пожалуй, в один флорин. Еще один был уплачен за роспись и переделку изображения прежней эмблемы в нечто совсем иное.[413] Таким образом, подеста пришлось израсходовать еще три флорина. Немец остался с медведем, а подеста обменял его на обезьяну и, таким образом, отправился на подестерию, куда ему надлежало явиться.
Однако он, может быть, вышел бы из положения лучше, если бы поступил так, как поступил в подобном случае некий человек, нашлемник которого был украшен конской головой. Когда один немец послал ему сказать, что он носит его нашлемник и потому требовал, чтобы он перестал его носить или вышел с ним на поединок, то человек этот спросил: «А какой нашлемник носит этот доблестный рыцарь?»
На что последний ответил: «С конской головой».
Тогда первый сказал: «Голова на моем шлеме кобылья: следовательно, никакого отношения между обоими шлемами нет».
Немец остался удовлетворенным, а тот человек вышел из положения и избег поединка, о котором он едва ли очень мечтал.
Новелла 151
Несколько лет тому назад[414] я, писатель, был в Генуе и находился однажды на Торговой площади в большом кругу образованных людей из разных городов, среди которых был мессер Джованни дель Аньелло[415] с одним близким ему человеком, несколько флорентийцев, высланных из Флоренции, луччане, которые не имели права проживать в Лукке, некий сьенец, не имевший права жить в Сьене, и еще несколько генуэзцев. Там мы беседовали на разные темы, которые часто тщетно обсуждаются любыми разлученными со своей родиной:[416] о новостях, выдумках, надеждах и, наконец, об астрологии. О последней с большим жаром говорил некий пизанский изгнанник по имени Фацио,[417] который рассказывал, что на основании многих небесных знаков он понял, что всякий изгнанник в течение этого года должен вернуться на свою родину. Он ссылался на то, что усмотрел это из пророчеств. Я возражал, говоря, что о событиях, которые должны произойти, ни он, ни кто другой ничего не мог знать наверняка, а он оспаривал это, изображая собой Альфонса,[418] Птоломея,[419] и посмеивался надо мной, точно он видел перед собой, что должно случиться, а я не вижу ничего даже в настоящем. Поэтому я сказал ему: «Фацио, ты величайший астролог, но в присутствии этих людей дай мне правильный ответ: „Что легче знать, прошедшее или будущее?"»
Фацио ответил: «Кто же это не знает! Безрассуден тот, кто не знает вещей, которые он видел перед собой. О том же, что должно случиться, не так-то легко узнать».
Я сказал ему: «Ну, посмотрим, как ты помнишь прошлое, которое так легко вспоминается. Скажи мне, что делал ты в такой-то день, год тому назад?»
Фацио задумался, а я продолжал: «Скажи мне тогда, что делал ты шесть месяцев тому назад?» Он забыл.
«Теперь скажи мне в заключение: какая погода была три месяца тому назад?»
Он задумался и молчал, вытаращив глаза, а я сказал ему: «Нечего так глядеть на меня. Где был ты два месяца тому назад в этот час?»
Он отошел в сторону, а я схватил его за плащ, говоря: «Подожди, взгляни на меня немного. Какой корабль прибыл сюда месяц тому назад? Какой отсюда отплыл?»
Тут Фацио стоит как дурак, а я спрашиваю его: «Что же ты молчишь? Где ты обедал две недели тому назад, у себя или в чужом доме?»
Он ответил: «Подожди немного!»
А я сказал: «Зачем нам ждать? Я не хочу ждать. Что делал ты неделю тому назад в этот час?»
А он попросил: «Дай мне передохнуть».
Я возразил: «Какой отдых нужен тому, кто знает, что должно произойти. Что ты ел четыре дня тому назад?»
Фацио ответил: «Это я тебе скажу». – «Почему же ты молчишь?» Он сказал на это: «Ты уж очень торопишь».
– «Какая же это торопливость! Говори скорее, говори же! Что ел ты вчера утром? Ну, что же ты молчишь?»
Так он отмалчивался почти на все вопросы. Увидя его таким растерянным, я взял его плащ и сказал: «Ставлю десять против одного, что ты не знаешь, спишь ли или бодрствуешь».
Тогда он ответил мне: «Хорош бы я был, ей-богу, если б не знал, что я не сплю».
– «А я говорю тебе, что ты этого не знаешь и никогда не сможешь это доказать».
– «Как так? Разве я не знаю, что я бодрствую?»
Я отвечал: «Так тебе кажется, а также и тому, кто спит, кажется то же самое».
– «Ну, хорошо, – сказал пизанец, – у тебя в голове много всяких силлогизмов».
– «Не знаю, причем тут силлогизмы. Я говорю тебе о веща» естественных и верных, а ты предаешься нелепым фантазиям. Теперь я хочу спросить тебя совсем о другом. Едал ли ты когда-нибудь мушмулу?»
Фацио ответил: «Да, тысячу раз».
– «Тем лучше! Сколько же косточек в мушмуле?»
Фацио ответил: «Я не знаю, я никогда не обращал на это внимания».
– «А если ты не знаешь такой простой вещи, то как можешь ты знать о небесных вещах? Но дальше, – продолжал я, – сколько лет провел ты в доме, в котором живешь?»
Он ответил: «Я прожил в нем шесть лет с месяцами».
– «А сколько раз в день ты спускался и поднимался по своей лестнице?»
– «Когда четыре, когда шесть, когда восемь раз в день».
– «Теперь скажи мне: сколько в твоей лестнице ступенек?»
Пизанец ответил: «Ну, эта карта бита».
А я возразил ему: «Ты прав, говоря, что я побил карту с полным основанием. Ты и многие другие астрологи с вашей фантазией хотите гадать а предсказывать, а на деле вам грош цена. Я слышал всегда, что говорят: что умеет прорицать – будет богат. Ну-ка, взгляни-ка, знаменитый гадатель, на себя. Какой ты теперь богач!»
Так оно и есть, все те люди, которые зевают на звезды и простаивают ночи на крышах, подобно кошкам, устремляют глаза на небо настолько, сто теряют из вида землю, и карманы их всегда пусты. Так я моими доводами пристыдил пизанца Фацио. Когда меня спросили некоторые достойные люди, не вычитал ли я когда-нибудь тех рассуждений, при помощи которых одержал победу над Фацио, в какой-нибудь книге, то я ответил: да, я нашел их в книге, которую всегда ношу при себе, а название ей: «Гадальная книга».[420] Они остались довольны этим объяснением и подивились ему.
Новелла 152
Некий испанский дворянин, по имени Джилетто,[421] направляясь ко гробу господню или возвращаясь оттуда, приехал в Милан; у него был с собой осел, скотинка, забавней которой не было на свете Этот осел служил, становясь на задние ноги, как собачонка французской породы, а когда дворянин говорил ему какие-то слова, то он ходил в таком положении, как бы приплясывая, когда же мессер Джилетто приказывал ему петь, то он ревел совсем по-особому, иначе чем другие ослы, и, наконец, он кувыркался, как человек, и проделывал много других вещей, весьма странных для ослиной породы.
Находясь в Милане, дворянин этот отправился навестить мессера Бернабо и приказал вести за собой названного выше осла. Когда он явился к синьору и принос ему свое почтение, мессер Бернабо, увидя его осла, тотчас взглянул на него и спросил: «Чей это осел?»