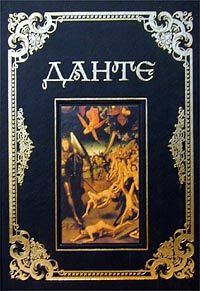Данте Алигьери - Сочинения
Итак, я утверждаю, что живое существо любит поначалу самого себя, хотя между другими различий не проводит; затем начинает различать те предметы и явления, которые в большей или меньшей степени ему любезны, а также те, что способны возбудить в нем большую или меньшую ненависть; он привержен к ним либо их избегает, не только познавая одни предметы и явления в других, любимых им во вторую очередь, но различает их в самом себе, любимом в первую очередь. Познав же себя, он больше любит в себе то, что более благородно; а так как в человеке дух благороднее, чем тело, человек любит дух больше, чем тело. Итак, поскольку он любит главным образом самого себя, а через себя и другие вещи, и поскольку он лучшую часть самого себя любит больше, то очевидно, что он любит дух сильнее, чем тело или чем что-либо другое: дух же этот человек от природы должен любить сильнее всего. Итак, если ум всегда больше наслаждается общением с любимым предметом и так как общение с предметом более всего любимым доставляет больше всего наслаждения, то и общение с нашим духом доставляет нам наибольшее наслаждение. А то, что доставляет нам наибольшее наслаждение, и есть наше счастие и наше блаженство, сверх которого не существует большего и равного ему наслаждения. И пусть иной не говорит, что всякое влечение духовно; ибо здесь под духом разумеется только то, что относится к разумной области, то есть к воле и к интеллекту, так что если кто-нибудь захотел бы назвать чувственное влечение духом, то здесь это неуместно и лишено всякого основания, ибо никто не сомневается в том, что разумное влечение, о котором и идет речь, более благородно, чем чувственное, а потому и более достойно любви. Поистине применение духа нашего имеет две стороны — практическую и созерцательную (практическая значит то же, что и действенная); и то и другое доставляет высшее наслаждение, хотя созерцательное в большей мере, как о том сообщалось выше. Применение духа практическое есть наше добродетельное действие, то есть действие пристойное, осмотрительное, умеренное, твердое и справедливое; применение же духа созерцательное есть лицезрение творений Бога и природы, а не наше действие. Как одно, так и другое — наше блаженство и высшее счастье, в чем легко убедиться; в этом счастье — сладость вышеназванного семени, что отныне с очевидностью явствует; сладость, которой очень часто семя это не достигает от плохого ухода и оттого, что развитие его было нарушено. Достичь сладости блаженства можно и при помощи постоянных исправлений и постоянного ухода; ведь на развитие семени можно воздействовать, направив его туда, куда оно поначалу не попало, так что оно наконец принесет желаемый плод; это как бы некий способ прививки чужой натуры к порочному корню. А потому извинять никого нельзя; ведь, если человек не располагает должными зернами от своего природного корня, он отлично может получить его путем прививки. О, если бы людей, действительно подвергавшихся этой прививке, было столько же, сколько существует таких, которые дают себя увести в сторону от здорового корня!
Поистине из этих двух применений нашего духа одно более полно блаженством, чем другое; таково применение созерцательное, которое без всякой примеси есть применение самой благородной нашей способности, которая благодаря упомянутой выше врожденной любви больше всего достойна быть любимой, а это и есть интеллект. Способность же эта не может в нашей жизни найти себе совершенного применения — применения, состоящего в лицезрении Бога в себе как высшего умопостигаемого начала, — разве лишь постольку, поскольку она созерцает и рассматривает Его в Его проявлениях. Мы называем высшим блаженством блаженство от жизни действенной, как учит нас Евангелие от Марка, если только внимательно в него вчитаться. Марк говорит, что Мария Магдалина, Мария Иаковлева и Мария Саломия отправились разыскивать Спасителя в гробнице и не нашли Его, но нашли юношу, облаченного в белую одежду, который им сказал: «Вы ищете Спасителя, а я вам говорю, что Его здесь нет; а потому не бойтесь, но идите и скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее, там Его увидите, как Он сказал вам». Под этими женами можно разуметь три направления в учении о действенной жизни, а именно эпикурейцев, стоиков и перипатетиков, направляющихся к гробнице, то есть к современному миру, который есть вместилище тленных вещей, где они ищут Спасителя, то есть блаженство, и не находят Его, но находят юношу в белых одеждах, который, согласно свидетельству Матфея, а также других, был Ангелом Господним. Недаром Матфей сказал: «…Ангел Господень, сошедший с небес, приступив отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был как молния, и одежда его бела как снег».
Этот Ангел и есть наше благородство, исходящее, как уже было сказано, от Бога, говорящее в нашем разуме и обращающееся к каждому из этих направлений, то есть к любому ищущему в действенной жизни блаженства, которого здесь не найти; но пусть Ангел пойдет и скажет это ученикам и Петру, то есть тем, кто его ищет, и тем, кто сбился с пути, как Петр, от него отрекшийся, и пусть он скажет, что предварит нас в Галилее: иначе говоря, блаженство предварит нас в Галилее, то есть в созерцании. Галилея — все равно что белизна. Белизна — цвет, исполненный телесного света более, чем всякий другой; подобно этому, и созерцание более полно духовного света, чем все иное, пребывающее в дольнем мире. Ангел говорит: «Он вас предварит», а не говорит: «Он будет с вами», давая этим понять, что в нашем созерцании Бог всегда нас предваряет и мы здесь никогда не можем достичь Его, как наше высшее блаженство. И он говорит: «…там Его увидите, как Он сказал…» — то есть там вы вкусите Его сладости, иными словами, блаженства, как вам было обещано. Итак, ясно, что наше блаженство (то счастие, о котором идет речь) мы прежде всего можем найти как бы несовершенным, в жизни действенной, то есть в применении нравственных добродетелей, а затем как бы совершенным — в применении добродетелей интеллектуальных. Оба эти действия — свободные и кратчайшие пути, ведущие к высшему блаженству, которого здесь достигнуть невозможно, как это ясно из того, что было сказано.
XXIII.
После того как мы, думается, достаточно ясно и по мере возможности всесторонне определили понятие благородства настолько, что теперь уже видно, что такое благородный человек, надлежит, как нам кажется, перейти к следующей части текста, начинающейся со слов: «Душа, украшенная даром Бога…» — где приводятся признаки, по которым можно распознать благородного человека. Делится же эта часть на две: в первой с очевидностью утверждается, что благородство это светит и сияет в течение всей жизни благородного человека; во второй благородство описывается в различных видах своего сияния, и эта вторая часть начинается со слов: «Она нежна, стыдлива и несмела…»
В связи с первой надо помнить, что Божественное семя, о котором говорилось выше, в душе нашей прорастает немедленно, по-разному проникая в каждую из способностей души и в ней обособляясь в зависимости от ее потребностей. Так оно прорастает в растительной, ощущающей и разумной способностях и разветвляется в силу возможностей, заложенных в каждой из них, направляя каждую к совершенству и все время поддерживая себя в них вплоть до того мгновения, когда оно, вместе с той частью нашей души, которая никогда не умирает, возвращается на небо к высочайшему и славнейшему Сеятелю. Об этом и говорит канцона словами первой, названной выше части. Далее, когда она начинает: «Она нежна, стыдлива и несмела…» — она показывает то, благодаря чему мы можем распознать благородного человека на основании явных признаков, которые суть проявления этой Божественной благости; делится же эта часть на четыре, в зависимости от разного ее проявления в разном возрасте, как-то в юности, зрелости, старости и в дряхлости. И начинается вторая часть со слов: «Созрев, она умеренна, сильна…»; третья — со слов: «…а в старости — щедра…»; а четвертая — со слов: «Достигнув дряхлости, она стремится…» Таков смысл данной части в целом. При этом следует понимать, что каждое действие, поскольку оно есть действие, воспринимает подобие породившей его причины, удерживая его в себе как можно дольше. Посему, коль скоро наша жизнь, как говорилось выше, да и жизнь всего сущего на этом свете обусловлена небом, а небо открывается во всех своих действиях не сразу по всей окружности, но лишь в какой-либо одной ее части, получается так, что его движение высится над отдельными жизнями подобно дуге и все земные жизни (я говорю «земные» как о людях, так и о других живых существах), поднимаясь и затем идя вниз, сами как бы уподобляются образу дуги. Итак, возвращаясь к нашей жизни, я утверждаю, что она следует как бы по этой дуге — поднимаясь и опускаясь.
И нельзя забыть, что эта нижняя дуга [была бы ровной, как и верхняя], если бы различное состояние семени не вступало в противоречие с требованиями природного равновесия. Однако, так как питающая корни влага бывает в большем или в меньшем количестве, хорошего или менее хорошего качества и в одном проявлении действует дольше, чем в другом, — а влага эта есть предмет воздействия и питательная среда того тепла, которое и есть наша жизнь — то и получается, что дуга жизни одного человека бывает более или менее крутой, чем у другого. Человек может умереть насильственной или преждевременной смертью, от случайного недуга; однако лишь та смерть, которая в просторечии зовется естественной, служит тем пределом, о котором говорится у Псалмопевца: «Ты положил предел, которого не перейдут». И именно потому, что Аристотель, наставник нашей жизни, заметил эту дугу, о которой здесь идет речь, он, видимо, и полагал, что наша жизнь не что иное, как некое восхождение и нисхождение: недаром он и говорит в том месте, где рассуждает о юности и старости, что юность не что иное, как прибавление жизни. Из-за указанной выше неровности дуги трудно установить, где находится высшая точка этой дуги; однако я полагаю, что для большинства людей она находится между тридцатым и сороковым годом жизни, и думаю, что у людей от природы совершенных она совпадает с тридцать пятым. Здесь я исхожу из следующего соображения: наилучшим естеством обладал наш Спаситель, Иисус Христос, пожелавший умереть, когда Ему исполнилось тридцать четыре года; ведь Божеству не подобало идти вспять и нельзя предположить, что Оно не хотело достигнуть вершины нашей жизни, побывав в детстве на самой низкой ее ступени. Это подтверждается не только днем, но и часом Его смерти, поскольку Он хотел, чтобы этот час отвечал достигнутому Им возрасту, а Лука говорит, что было около шестого часа, когда Он умер, иначе говоря, вершина дня. Из этого «около» и можно заключить, что вершина возраста Христа приходилась на Его тридцать пятый год.