Автор неизвестен - Европейская старинная литература - Средневековые латинские новеллы XIII в.
Еще один пример странной с современной точки зрения реакции средневекового человека: один рыцарь видит, как у спящего паломника изо рта выскакивает ласка и убегает на соседнюю гору, а потом вновь прыгает к нему в рот. В этом эпизоде внимание рыцаря странным образом занимает только одно: «Что все-таки ласке понадобилось на этой горе?», будто каждый день ему приходится видеть, как ласки выскакивают изо рта людей и возвращаются туда вновь (новелла 77).
Большинство упомянутых здесь особенностей средневекового умственного и жизненного обихода в конечном счете восходит к различию современного и средневекового сознания Совместными трудами многих ученых было доказано, что средневековое мышление отличалось от современного как особенностями своей техники, так и тенденцией подходить к явлениям окружающего мира символически и аллегорически, т е усматривать за видимым невидимое, за буквальным смыслом более глубокие его, вторые и третьи пласты.[113] Важнейшая особенность этого мышления, отчетливо проявившаяся в «Римских деяниях», это, по остроумному определению Ферреро, arrêt mental – остановка мысли, недодумывание до конца, поражающее нас отсутствие логики Дело здесь не всегда в неумении дискурсивно мыслить, хотя в обыденном средневековом мышлении эта способность ослаблена, и недаром, как показал Ферреро, средневековый человек, сталкиваясь с необходимостью построить причинно-следственные ряды, обычно путается уже в трех соснах. Часто леность мысли, т е. примирение с логическим нонсенсом, связана с тем, что логика средневековому человеку не нужна и вытесняется более насущной для его мировоззрения дидактикой. Так, для автора истории о Фоке (новелла 20), например, главное и единственно важное дать нравственную парадигму, образ праведного человека и справедливого царя. Перед этой задачей логическое правдоподобие теряет свою цену, и автора не заботит, что доводы Фоки, которыми он пытается себя оправдать, не имеют под собой почвы Присмотримся к атому рассказу. Художник Фока нарушил закон, изданный императором Титом, под страхом смерти запрещающий работать в день рождения его сына. Доставленный к разгневанному Титу, Фока убеждает его в том, что не мог поступить иначе Фоке, по его словам, нужно ежедневно зарабатывать восемь денариев, так как два денария он должен давать отцу, два откладывать для сына, два давать жене, два тратить на себя.
Если Тита удовлетворили доводы Фоки, то нам они представляются логически неубедительными В самом деле, стоит ли, чтобы не пропустить рабочего дня, рисковать жизнью, поскольку рождение императорского сына бывает раз в году, следовательно, дефицит в восемь денариев должен быть разложен на 365 дней, иначе сказать, этот дефицит не может оказать влияния на бюджет Фоки, кроме того, Титу следовало бы возмутиться тем, что Фока вместо того, чтобы всего на два денария в году сократить расходы на себя (праведному царю приличествует не покушаться на те статьи бюджета Фоки, которые связаны с долгом доброго семьянина, т. е на его траты на отца, сына и жену), предпочел нарушить положенный им закон.
В 59-й истории дидактика тоже властно прогоняет логику: чтобы баланс добра и зла был соблюден, автору нужно наказать недостойную возлюбленную героя, Я он, не страшась очевидной несообразности своего рассказа, заставляет ее умереть от мучительного недуга, хотя в ларце коварной женщины лежит ожерелье, обладающее волшебной силой давать надевшему его нашею «все, что было угодно душе», и ей стоит только протянуть за ним руку, чтобы избежать смерти Но все же леность мысли не всегда оправдана назидательными задачами и проявляется в чистом виде как ментальная особенность, присущая средневековому человеку. Вот пример такой непродуманности: в новелле 34, о которой выше шла речь (состязание двух врачей в хирургическом искусстве), только ослабленностью логической мысли можно объяснить, что врач, уверенный в своем профессиональном превосходстве над соперником, тем не менее соглашается доверить ему операцию, в результате которой рискует лишиться зрения.
Такого же типа логика и в новелле 87: ученик волхва похитил его книгу и убежал из города; обнаружив пропажу, маг с помощью своего искусства узнает, какой дорогой пошел ученик, пускается в погоню, и, когда уже вот-вот настигает беглеца, ученик прячется под мостом, а маг ничего при всем своем искусстве не подозревая, пробегает мимо и дает школяру провести себя.
Не следует думать, что рассказчик хотел посмеяться над магом или разоблачить его как шарлатана – против этого, между прочим, говорит и старонемецкий перевод истории, где маг неизменно называется умным, мудрым («kluger Meister der schwarzen Kunst»);[114] ему нужно было лишь проиллюстрировать мысль, что простое иной раз оказывается мудренее сложного. Но автор не замечает того, что история, в том виде, как он ее передал, нелогична: опытный маг непременно должен был изобличить хитрость, как перед этим сумел определить, какую дорогу избрал похититель его книги.
Знаменитое средневековое легковерие и равнодушие к явным несообразностям – тоже проявление умственной лености. Поэтому в истории об Аполлонии Тирском (новелла 71) сознание автора спокойно мирится с тем, что его герой, добрый христианин, которого по ночам посещает ангел и дарит своим советом, войдя в эфесский храм, падает к ногам жрицы, принимая ее за владычицу этого храма богиню Диану. Не менее причудлив логически и эпизод из новеллы 77, где заговорщики, задумав убить спящего в замке рыцаря, говорят друг другу: «Если мы убьем паломника в постели, мы сами будем преданы смерти. Лучше сбросим его в море вместе с постелью, и тогда люди будут говорить, что он бежал» (?).
К этой же категории странностей относятся и противоречия, встречающиеся в «Римских деяниях». Взглянем на заглавие 35-го рассказа – «О том, что не следует зариться на богатство», противоречащее тому, о чем там повествуется. В самом деле: за красивой своей дочерью царь не дает приданого, некрасивая же получает все богатства и обещание, что после смерти царя тот, кто возьмет ее в жены, наследует царство. Такой человек в конце концов находится, женится на дурнушке и после смерти царя садится на престол. Всякому очевидно, что мораль истории выведена вопреки логике: бедный граф, взявший в жены царскую дочь, получает богатство и трон, т. е. добивается того, к чему стремился, но при этом ничем не наказан за свой выбор, так как жена его, кроме известного ему наперед внешнего недостатка, не обнаруживает в дальнейшем никаких других, и ему нет оснований раскаиваться в своем поступке.
Если непоследовательности иного характера, т. е. не логические недосмотры, а противоречия, связанные с ошибками памяти, вроде разного наименования одного и того же героя или появления в каком-нибудь третьем томе персонажа, убитого автором в первом, объяснимы в пространных сочинениях, писавшихся длительное время, то аналогичные непоследовательности в пределах очень небольших по объему новелл «Римских деяний», в подавляющем большинстве созданных, конечно, в один присест, не могут быть следствием капризов памяти. Их причина – все та же леность ума, не дающего себе труда додумывать до конца, а потому не страшащегося противоречий. В истории папы Григория (новелла 37) мы сначала читаем о том, что будущий князь церкви воспитывается в семье рыбака, не подозревая о том, что он найденыш, и случайно обнаружившаяся истина заставляет его в горе покинуть людей, которые его приютили. Однако в развязке, рассказывая о себе царице, Григорий, к нашему удивлению, упоминает (отнюдь не стремясь ее обмануть), что настоятель монастыря неоднократно говорил о его странном появлении в этих местах: Григорий, как мы помним, в бочке был прибит к берегу и подобран монахами. В другой истории невнимательность автора оборачивается прямым комизмом: приговоренный к казни обещает своему другу быть ему вечно благодарным, если тот окажет ему услугу, забывая, что для этого уже нет времени (новелла 51).
Существенную роль для понимания «Римских деяний» играет то обстоятельство, что в средние века писатель или художник пользовался, как мы бы сейчас сказали, кодовым языком, а читатель и зритель не просто читал и смотрел, а переводил с языка тайнописи на свой язык. Ум тех, для кого предназначались эти произведения средневекового искусства, был ориентирован символически, и перевод осуществлялся «с листа», почти непроизвольно. Непритязательные, а подчас даже малопристойные бытовые сценки не воспринимались при этом непосредственно – читатели и зрители тоже находили в них дидактический и генерализованный высокий смысл. Рефлекс сознания – искать под одним смыслом другой был настолько силен, что делал возможным такие адаптации, как создание монашеского Овидия, т. е. приспособление для дидактических целей даже его фривольной «Ars amandi». Если современный зритель, не обученный языку средневекового искусства, увидит на капители романского собора в Отене (XIII в.), как аббат и аббатисса дерутся за пастырский посох, он скорее всего расценит сценку как гротескную и даже антиклерикальную. Как далек, однако, подлинный смысл отенского изображения от этих само собой – с нашей точки зрения – напрашивающихся объяснений! Художник изобразил здесь символически раздор и непорядок в церкви, коснувшийся в равной мере мужских и женских монастырей. Высокие истины постоянно облекались в формы скуррильные и гротескные, что никого не удивляло.


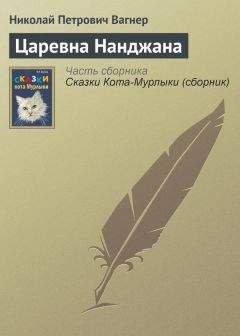
![Анатолий Фоменко - Книга 1. Античность — это Средневековье[Миражи в истории. Троянская война была в XIII веке н.э. Евангельские события XII века н.э. и их отражения в истории XI века]](/uploads/posts/books/216679/216679.jpg)
![Анатолий Фоменко - Книга 1. Античность — это Средневековье[Миражи в истории. Троянская война была в XIII веке н.э. Евангельские события XII века н.э. и их отражения в истории XI века]](/uploads/posts/books/217057/217057.jpg)