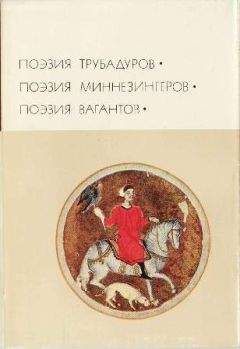Аиссе - Соната дьявола: Малая французская проза XVIII–XX веков в переводах А. Андрес
Было столько благожелательности в каждом движении этого старика, голос его звучал так мягко и дружественно, что Гортлинген почувствовал: в нем не остается уже ни малейшего чувства ревности. Он сел и стал слушать.
— Так, значит, соната моя вам нравится? — спросил старик, закончив игру.
— Увы, — отвечал ему Гортлинген, — почему не дано мне создать что-либо подобное?
— Послушайте меня, — сказал старик, — Ньезер совершил великое преступление, поклявшись отдать свою дочь тому, кто сочинит лучшую сонату, даже если она будет сочинена и сыграна самим дьяволом. Кощунственные слова его были услышаны, их повторяло лесное эхо, их подхватили ночные ветры и донесли на крылах своих до слуха того, кто обитает в долине тьмы. И долина огласилась радостным хохотом дьявола. Но не дремал и гений добра, и, хотя к Ньезеру жалости у него нет, участь Гортлингена и Эстер вызвала его сострадание. Возьмите же эту нотную тетрадь; вам надобно будет завтра войти с ней в залу Ньезера. Там появится некий незнакомец, чтобы принять участие в состязании, его будут сопровождать двое других. Соната эта та самая, которую станут играть они, только моя обладает особым свойством; вы должны улучить подходящий момент и заменить их ноты этими.
Закончив эту удивительную речь, старик взял Гортлингена за руку, незнакомыми улицами вывел его к городским воротам и там оставил.
Возвращаясь домой с нотным свертком в руках, Гортлинген терялся в догадках по поводу этого странного происшествия и с недоумением думал о событиях завтрашнего дня. Было в лице старика нечто такое, что невозможно было не поверить ему, и вместе с тем никак не мог он постигнуть, какой толк для него, Франца, может быть в замене одной сонаты другой, раз все равно сам он даже не числится среди претендентов на руку Эстер. Он вернулся к себе, и всю ночь витал пред ним образ Эстер, а в ушах раздавались звуки сонаты старика.
Назавтра, на закате дня, двери дома Ньезера открылись для соискателей. Все музыканты города Аугсбурга устремились туда; множество людей столпились у входа в дом, чтобы поглазеть на них. В назначенный час взял свою тетрадь и Франц и тоже поспешил к дверям Ньезера. Все собравшиеся смотрели на него с жалостью, ибо всем известно было о его любви к дочери музыканта; они тихо говорили друг другу: «Что делает здесь Франц с этой тетрадкой в руке? Уж не думает ли он, бедняга, принять участие в состязании?»
Когда Гортлинген вошел, зала была уже полна претендентов и любителей музыки, которых Ньезер пригласил присутствовать на состязании. И в то время как он проходил по зале со своей нотной тетрадкой в руке, на лицах всех музыкантов возникала улыбка — все они были знакомы между собой, и им хорошо было известно, что он едва способен сыграть обыкновенный марш, не то что сонату, даже если бы как-то исхитрился сочинить ее. И Ньезер тоже улыбнулся, увидев его. Но Эстер, как многие это заметили, встретившись с ним глазами, тайком утерла слезу.
Ньезер объявил, что соперники могут подходить к нему и записывать свои имена и что всем им предстоит тянуть жребий, дабы определить порядок выступлений. Последним подошел какой-то чужестранец. И сразу все, словно подчиняясь некоей неведомой силе, расступились, пропуская его. Никто доселе не видел его, никто не знал, откуда он явился. Лицо его было столь отталкивающим, а взгляд столь страшным, что сам Ньезер не мог удержаться и шепнул дочери: «Надеюсь, что не его соната окажется самой лучшей».
— Начнем состязание, — промолвил Ньезер. — И я клянусь, что отдам дочь свою, которую все вы видите здесь, рядом со мной, вместе с приданым в двести тысяч флоринов тому из вас, кто сочинил лучшую сонату и сумеет лучше всех сыграть ее.
— И вы сдержите свою клятву? — спросил чужестранец, подойдя вплотную к Ньезеру и глядя ему прямо в лицо.
— Я сдержу ее, — отвечал аугсбургский музыкант, — даже если соната эта окажется сочиненной самим дьяволом во плоти и будет им же сыграна.
Все молча содрогнулись. Один лишь чужестранец улыбнулся. Первый жребий выпал ему. Он сразу сел за клавесин и развернул ноты. Какие-то два человека, которых никто до этой минуты не видел, тотчас же стали подле него со своими инструментами. Все глаза устремились на них. Подали знак, и, когда музыканты откинули головы, чтобы взять первый аккорд, все с ужасом увидели, что у всех троих одно и то же лицо{136}. Трепет прошел по всему собранию. Никто не осмеливался даже слова шепнуть соседу, но каждый, закрывшись плащом, поторопился выскользнуть из залы, и вскоре в ней никого уже не оставалось, кроме троих музыкантов, продолжавших играть свою сонату, да Гортлингена, который не позабыл совета, данного ему стариком. Старый Ньезер все так же сидел в своем кресле, но и он теперь дрожал от страха, вспоминая о роковой своей клятве.
Гортлинген стоял рядом с музыкантами, и, как только те доиграли до конца страницу, он ловким движением смело заменил ее своими нотами. Адская гримаса искривила черты всех троих, и, словно эхо, издалека донесся чей-то стон.
Рассказывают, будто после того, как пробило полночь, добрый старик вывел из зала Гортлингена и Эстер, но соната все продолжала звучать. И прошли годы. Эстер и Гортлинген стали мужем и женой, и состарились, и дошли до предела своих жизней. А странные музыканты все играют и играют, и старый Ньезер, как уверяют некоторые, до сих пор еще сидит в своем кресле, отбивая им такт.
Король Бисетра
Мы расскажем здесь о безумии одного очень странного человека, жившего в середине XVI столетия. Рауль Спифам сеньор де Гранж был сюзереном без сеньории, каких немало уже расплодилось в ту пору войн и дворянского разорения, коснувшегося самых благородных родов Франции. Отец не оставил ему, так же как и его братьям Полю и Жану, отличившимся впоследствии на различных поприщах, почти никакого состояния, и Рауль, еще совсем юношей, послан был в Париж, где изучил право и сделался адвокатом. Когда Генрих II после кончины своего прославленного отца Франциска{137} стал королем, он сразу же по окончании парламентских вакаций, последовавших за восшествием его на престол, прибыл в парламент{138}, дабы лично присутствовать на открытии заседания судебных палат. Рауль Спифам скромно сидел в последнем ряду собрания среди младших клерков, отличаясь от них лишь своим белым нагрудником доктора права. Генрих II восседал на самом высоком месте, выше первого президента; он был в своей расшитой золотом по голубому полю мантии французских королей, и не было в зале человека, который не залюбовался бы приятностью и благородством его черт, несмотря на болезненную бледность, отличавшую всех государей этого королевского рода. Латинская речь достопочтенного хранителя печати в тот день была очень длинной. Рассеянный взгляд короля, которому наскучило пересчитывать то склоненные перед ним головы магистратов, то резные украшения на потолке, наконец задержался на сидевшем в самом конце зала человеке, чье необычное лицо было как раз ярко освещено солнечным лучом; и мало-помалу глаза всех присутствующих тоже устремились к тому, кто столь явно привлек к себе внимание государя. Человеком этим был Рауль Спифам.
Генриху II показалось, будто прямо против него находится портрет, в точности изображающий его особу, с той только разницей, что изображен он не в голубом, а в черном одеянии. Все присутствующие тоже обратили внимание на то, как разительно молодой адвокат похож на короля, и так как существует поверье, будто человеку незадолго до смерти иногда является собственный его образ в траурной одежде, государь до самого конца заседания выглядел несколько встревоженным. Выходя из парламента, он велел разузнать, что это за человек, и окончательно успокоился лишь после того, как узнал имя, занятие и происхождение своего двойника. Однако он не выразил желания познакомиться с ним, а возобновившаяся вскоре после того война с Италией вытеснила из его памяти это странное впечатление.
Что до Рауля, то с этого дня товарищи по ремеслу стали обращаться к нему не иначе как «сир» и «Ваше Величество». Эти шутки так часто повторялись по всякому удобному поводу — как это водится среди молодых чиновников, которые всегда рады случаю поразвлечься и посмеяться, — что впоследствии в этом постоянном подшучивании стали видеть одну из главных причин умопомешательства Рауля, толкавшего его на разного рода несуразные поступки. Так, однажды он позволил себе выразить свое недовольство первому президенту по поводу несправедливого, с его точки зрения, приговора по делу о наследстве, за что был на время отстранен от своих обязанностей и присужден к уплате штрафа. Несколько раз он осмелился также в своих защитительных речах оспаривать законы королевства или мнения влиятельных особ, а иной раз и вовсе уклонялся от существа разбираемого дела, высказывая весьма дерзкие мысли о правлении государством и не всегда почтительно отзываясь о королевской власти. Кончилось все это тем, что верховные судьи, не найдя для него никакой иной меры пресечения, запретили ему впредь заниматься своим ремеслом. Но Рауль Спифам взял с тех пор привычку ежедневно являться в приемную комнату суда и, останавливая там встречного и поперечного, излагать свои планы преобразований и жаловаться на судей. Дело дошло до того, что братья Спифама и его дочь вынуждены были ходатайствовать перед судом о лишении его гражданских прав; только благодаря этому обстоятельству он вновь получил доступ в залу суда.