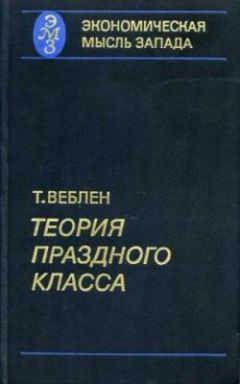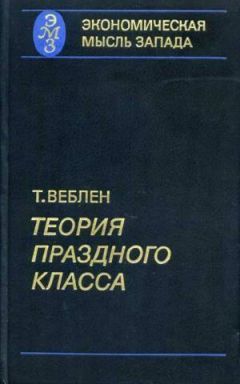Жюль Мишле - Ведьма
Так помогали коварные соседки, насколько было в их силах, извратить девушку, честную и порядочную, чувственность которой пробуждалась лишь поздно и с трудом под гнусной властью околдовавшего ее человека, авторитет которого она считала священным.
Две черты приятно поражают в ее грезах. Это, во-первых, тот чистый идеал верной до смерти любви, который она лелеяла, на что указывает ее видение о том, что ее имя и имя Жирара навеки соединены в книге бытия. Во-вторых — такая черта, как ее доброта, то и дело вспыхивающая сквозь безумие, ее очаровательное детское сердечко. В Вербное воскресение при виде радостной семьи, собравшейся вокруг стола, она плакала три часа подряд, думая о том, что «в этот день никто не пригласил Христа обедать».
В продолжение почти всего поста она не могла есть. То немногое, что она съедала, она извергала назад. Первые две недели она совсем воздерживалась от пищи и дошла до крайней степени слабости. Кто поверил бы, что Жирар подвергнет умирающую, едва дышавшую девушку новым жестокостям? Он помешал ее ранам зажить, на правом боку показалась новая язва. Наконец, в Страстную пятницу, чтобы довершить жестокую комедию, он принес ей венец из проволоки, которая вонзилась ей в голову, так что кровь полилась по лицу.
Все это делалось открыто. Он сначала обрезал ее длинные волосы и унес их, потом заказал венец у некоего Битара, торговавшего в порте клетками. Екатерина не показывалась посетителям в венце. Публика видела только последствия, капли крови, окровавленное лицо. На него накладывали платки, чтобы получился нерукотворный образ, как это было со святой Вероникой, а Жирар брал эти платки с собой, очевидно, как подарки благочестивым людям.
Мать Екатерины оказалась против воли соучастницей мошенничества. Тем не менее она боялась Жирара. Она начинала понимать, что он готов на все. Кто-нибудь (вероятно, Гиоль) сообщил ей по дружбе, что если она скажет хоть одно слово, то ее дочь не проживет и двадцати четырех часов.
Что же касается Екатерины, то она на этот счет никогда не лгала. В продиктованном ею сообщении об этом посте она прямо говорит, что это был венец с остриями, которые вонзались в голову до крови. Не скрывала она и происхождение тех маленьких крестиков, которые она дарила посетителям. Она заказала их у родственника, столяра из Арсенала, по модели, доставленной ей Жираром.
В Страстную пятницу она пролежала двадцать четыре часа в обмороке или «экстазе», всецело находясь на попечении Жирара, попечении, обессиливающем, убийственном. Она была на третьем месяце беременности. Он уже видел перед собой святую, мученицу, преображенную, а ее тело начинало округляться. Он и желал и боялся насильственной развязки путем аборта. Он сам подготовлял его, давая ей каждый день опасные капли, красноватые порошки.
Ему было бы приятнее видеть ее мертвой. Ее смерть выпутала бы его из затруднительного положения. А раз она была жива, то ему хотелось, по крайней мере, удалить ее от матери, спрятать в монастырь. Он знал эти учреждения, знал, как и Пикар, с какой ловкостью и тайной там умеют похоронить подобные истории. Он хотел послать ее или к картезианкам в Премоль или к клеристкам в Оллиуль. Он сделал ей подобное предложение еще в Страстную пятницу. Но она была так слаба, что ее боялись поднять с постели. Наконец, на пятый день Пасхальной недели, когда Жирар был в ее комнате, она почувствовала мучительный позыв и потеряла значительный сгусток крови. Он взял посуду и внимательно разглядывал ее у окна. Не подозревая ничего дурного, Екатерина позвала служанку и попросила вынести посуду. «Какая неосторожность!» — невольно воскликнул Жирар, несколько раз глупо повторяя эти слова.
Дьявол у обедни. 1493 г.
Об аборте, которому подверглась девица Ложье, у нас меньше сведений. Она заметила свою беременность перед постом. У нее были странные судороги, объявлялись довольно смешные стигматы: один представлял собой след ножниц, которыми она себя ранила еще в то время, когда была белошвейкой, другой — простой лишай. Ее экстазы вдруг сменились нечистым отчаянием. Она плевала на распятие и кричала: «Где этот дьявол-монах, повергший меня в такое состояние? Не трудно обмануть двадцатидвухлетнюю девушку! Где он? Он бросил меня! Пусть придет!» Окружавшие ее женщины были сами любовницами Жирара. Они пошли за ним, но он не осмелился явиться на глаза разъяренной беременной девушки.
Так как кумушки были заинтересованы в том, чтобы было поменьше шума, то они, по всей вероятности, и сами без него нашли средство покончить с этим делом без всякого шума.
Был ли Жирар колдуном, как впоследствии утверждали? Так можно было бы подумать, видя, как он, не будучи ни молодым, ни красивым, легко увлек стольких женщин. Еще более странно, что несмотря на то, что он страшно скомпрометировал себя, он сумел подчинить в свою пользу еще и общественное мнение. На мгновение казалось, что он околдовал весь город.
На самом деле все обстояло гораздо проще. Могущество иезуитов было всем известно. Никто не рисковал вступить с ними в борьбу. Даже шепотом боялись плохо говорить о них. Большая масса духовенства состояла преимущественно из монахов нищенствующих орденов, не имевших ни сильных связей, ни высоких покровителей. Даже кармелиты, весьма ревнивые, уязвленные тем, что выпустили Екатерину из своих рук, даже и они молчали. Брат Екатерины, молодой доминиканец, на просьбы потрясенной матери вернулся к политике осторожности, сблизился с Жираром, потом привязался к нему не менее младшего брата и даже помогал ему в странной махинации, которая невольно наводит на ум, что Жирар обладал даром прорицания.
* * *Бояться оппозиции приходилось только со стороны того человека, которого Жирар, по-видимому, более всех других поработил. Все еще находясь в полном подчинении, Екатерина, однако, уже обнаруживала легкие признаки грядущей пробуждавшейся независимости.
30 апреля во время прогулки за город, галантно устроенной Жираром, в которой участвовали как Гиоль, так и все стадо молодых святош, Екатерина впала в глубоко мечтательное настроение. Чудная весна, очаровательная в этой стране, обратила ее сердце к Богу. В припадке истинной религиозности она восклицала: «Только тебя, о Господи, я желаю! Только тебя! Даже ангелов твоих мне мало».
Одна из девушек, очень веселая, повесила себе на шею на провансальский манер маленький тамбурин. Екатерина последовала примеру других, прыгала, плясала, сделала себе из ковра пояс, разыгрывала цыганку и была готова на всякие безумства, чтобы забыться.
Она была очень возбуждена. В мае она получила от матери разрешение паломничать в Сен-Бом в церковь Мадлены, великой святой покаятельницы. Жирар согласился отпустить ее только под присмотром двух верных ему женщин — Гиоль и Ребуль. Хотя дорогой с ней моментами и случались еще экстазы, ей, однако, надоело быть пассивным орудием духа-насильника (адского ли или небесного — все равно), который ее смущал и волновал. Год ее одержимости подходил к концу. Разве она не свободна? Покинув мрачный, колдовской Тулон, очутившись на свежем воздухе, на природе, под лучами солнца, бедная пленница снова обрела свою душу, восстала против души чужой, осмелилась стать собой, осмелилась желать. Обе шпионки Жирара были смущены. По возвращении они предупредили его о происшедшей с ней перемене. Он сам скоро убедился в ней. Она не поддавалась больше экстазу, хотела подчиняться, казалось, только разуму.
Он надеялся держать ее в руках очарованием и авторитетом, наконец, одержимостью и плотской привычкой.
Ничего не выходило. Юная душа, не столько завоеванная, сколько захваченная врасплох (и притом предательски), незаметно пробуждалась к естественной жизни. Он был оскорблен. От прежней профессии педанта, тирана детей, которых он мог по желанию наказывать, тирана монахинь, не менее зависимых, он сохранил ревнивое отношение к своей власти. Он решил снова подчинить себе Екатерину, наказав ее за этот первый маленький бунт, если так можно было назвать робкий порыв порабощенной души к освобождению.
22 мая, когда по своему обыкновению она исповедовалась у него, он отказал ей в отпущении на том основании, что она очень грешна, что завтра он должен наложить на нее большое, очень большое наказание.
Какое? Пост? Но она и без того была до последней степени истощена. Продолжительные молитвы — другая епитимья — были не в духе исповедника-квиетиста, и он запрещал их. Оставалось — телесное наказание, бичевание. Это было наказание общераспространенное, практиковавшееся как в монастырях, так и в школах. Это наказание применялось так просто и сокращенно, что наказание налагалось во времена более первобытные и грубые даже в самой церкви. Из фабльо, этих наивных картин нравов, мы узнаем, что священники после исповеди тут же, на месте, позади исповедальни, били мужа и жену. Так же наказывались школьники, монахи и монахини.