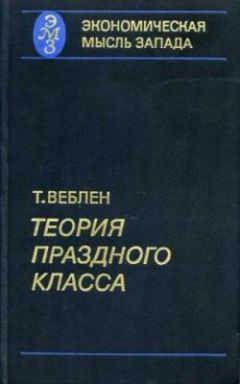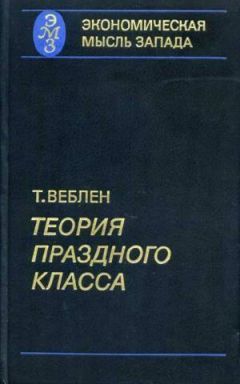Жюль Мишле - Ведьма
Видя ее возбужденной, не способной молиться, Жирар также неделикатно и также легкомысленно позволил ей приобщаться Святых Тайн, когда ей будет угодно, хоть каждый день, во всех церквах. Ей становилось лишь хуже. Уже вся во власти дьявола, она давала место в сердце и ему, и Богу. Обладая одинаковой силой, они боролись в ее душе так, что ей казалось, она разорвется на части и умрет. Она падала в обморок, теряла сознание, оставалась целыми часами в бесчувственном состоянии. В декабре она почти уже не выходила, почти не покидала постели.
У Жирара имелся достаточно веский предлог видеться с ней. Человек осторожный, он просил младшего брата провожать его, по крайней мере, до дверей. Комната больной была на верхнем этаже. Мать, не желая мешать, оставалась в лавке. Он мог оставаться наедине с ней, мог по желанию запереть комнату. Она была тогда очень больна. Он обращался с ней, как с ребенком, садился у изголовья постели, держал ее голову, отечески целовал.
Она принимала эти ласки почтительно, с нежностью и признательностью.
Глубоко невинная, она была вместе с тем очень чувственна. Даже при легком прикосновении, которого другая не заметила бы, она теряла сознание. Было достаточно даже просто задеть ее грудь. Жирар скоро убедился в этом ее качестве, и в голове его родились дурные мысли. Он охотно погружал ее в такой сон, а она и не думала защищаться, всецело доверяя ему, беспокоясь и стыдясь только того, что ведет себя так свободно с таким человеком, заставляет его терять драгоценное время. Он подолгу оставался у нее. Нетрудно было предвидеть, что должно было случиться. Несмотря на свою тяжелую болезнь, бедная молодая девушка сумела опьянить Жирара. Однажды, просыпаясь, она увидела себя в позе, до смешного непристойной. В другой раз она почувствовала, что он ее ласкает. Она покраснела, вздохнула, пожаловалась.
А он бесстыдно заметил: «Я твой господин, твой Бог! Ты все должна снести во имя послушания».
На Рождество, во время большого праздника, он забыл всякую сдержанность. Пробуждаясь, она воскликнула: «Боже! Как я страдала». «Охотно верю, бедняжка!» — произнес он тоном сочувствия.
После этого она жаловалась уже меньше, но не говорила о том, что испытывает во время сна.
Жирар понял лучше и не без страха, что сделал. В январе — феврале он уже не мог сомневаться в ее беременности. Положение становилось еще запутаннее благодаря тому, что и Ложье оказалась в таком положении. Пирушки святош, обильно приправляемые туземным вином, имели своим первым последствием для этих легко воспламенявшихся женщин экзальтацию, заразительный экстаз. Хитрые подделывались под это настроение. У молодой Ложье, сангвинической и страстной, оно было искренним. В своей маленькой комнатке она испытывала настоящее безумие, падала в обморок, особенно когда ее посещал Жирар. Она забеременела несколько позднее Екатерины, без сомнения, в день Крещения.
Положение становилось опасным.
Девушки жили не в уединении, не в монастыре, которому было важно потушить дело, а, так сказать, на улице, на виду у всех: Ложье среди любопытных соседок, Екатерина — в лоне семьи. Ее брат, доминиканец, уже и так был недоволен продолжительными визитами Жирара. Однажды, когда последний пришел к сестре, он остался у нее, как бы желая ее оградить, — Жирар дерзко выставил его из комнаты, а возмущенная мать выгнала сына из дома.
Дело грозило завершиться скандалом. Жирар не сомневался, что молодой человек, с которым поступили так жестоко, выгнанный из дома, в порыве негодования расскажет обо всем своему ордену, что последний воспользуется удобным случаем, распространит историю по всему городу и натравит город на него. Тогда он принял странное решение выйти из затруднительного положения смелым наступлением, спастись гнусностью.
Развратник превратился в преступника.
Жирар хорошо знал свою жертву. Он видел на ее теле следы золотухи, которой она в детстве страдала. Ранки этой болезни не заживают совсем, как это бывает с другими ранами. Кожа остается в этих местах светло-розовой, тонкой и слабой. У Екатерины следы золотухи остались на ногах, а также на нежном и опасном месте, на груди. И вот ему пришла дьявольская мысль вновь растравить язвы и выдать их за стигматы вроде тех, которые небо даровало святому Франциску и другим святым, носившим следы гвоздей и копья, как распятый, которому они хотели во всех отношениях подражать. Иезуиты не могли примириться с тем, что им нечего было противопоставить чудесам янсенистов. Жирар был уверен, что очарует их неожиданным чудом. Иезуиты, их монастырь в Тулоне, конечно, поддержат его. Старик Сабатье был готов верить всему. Он был когда-то исповедником Екатерины, и такое происшествие послужило бы лишь к его славе. Другой иезуит, отец Гринье, был глупым ханжой, способным видеть все, что от него потребуют.
Если бы кармелиты или другие вздумали выразить сомнение, то свыше им сделают предостережение, и они благоразумно умолкнут. Даже доминиканец, брат Екатерины, дотоле завистник и враг, найдет выгодным поверить факту, который прославит его семью и сделает его братом святой.
«Но разве все это не естественно! — возразят. — Есть масса достоверно засвидетельствованных примеров настоящих стигматизированных». Противоположное утверждение как раз более вероятно.
Когда Екатерина заметила, в чем дело, ей было стыдно и она была безутешна, боясь, что Жирар охладеет к ней под влиянием такого возврата детской болезни. Быстро отправилась она к соседке, некой госпоже Трюк, занимавшейся медициной, и купила у нее (якобы для младшего брата) мазь, чтобы смазывать язвы.
К каким приемам прибегал жестокий изверг, чтобы создать эти язвы? Раздирал ли он их ногтями? Пользовался ли он маленьким ножом, который всегда носил при себе? Или же он притягивал — как это делал впоследствии — кровь к ранам тем, что сосал губами больные места. Она теряла сознание, но не чувствительность: нет никакого сомнения, что сквозь сон она чувствовала боль. Если бы она не рассказала обо всем Жирару, она сочла бы себя великой грешницей. Как ни боялась она вызвать в нем разочарование и отвращение, она призналась. Он осмотрел ее и, продолжая играть комедию, упрекнул ее, зачем она хочет лечиться и не слушается Бога. То небесные стигматы. Он опускается на колени, целует раны на ее ногах. Она униженно крестится, не хочет верить. Жирар настаивает, бранит ее, заставляет показать бок, благоговейно созерцает рану.
«У меня тоже такая рана, но только внутри!» — замечает он. И вот она вынуждена верить, что она — живое чудо. Случившаяся как раз в это время смерть сестры Ремюза помогла ей принять на веру такое удивительное событие. Она видела ее в ее славе, видела, как сердце ее вознеслось к ангелам. Кто будет ее преемницей на земле? Кто унаследует ее возвышенные дары, небесную милость, что осеняло ее? Жирар предложил ей освободившееся место и совратил ее, действуя на ее честолюбие. С тех пор она была неузнаваема. Она тщеславно освящала все испытываемые ею проявления природы. Капризы, содрогания беременной женщины, в которых она ничего не понимала, она приписывала внутренним порывам Духа. В первый день Великого поста, сидя с семьей за обедом, она вдруг увидела Спасителя. «Я хочу повести тебя в пустыню, где я страдал, — сказал он ей, — хочу приобщить тебя к моим страданиям».
Она содрогнулась: ей страшно предстоящих мук. Но только она одна может искупить целый мир грешников. Перед ней носятся кровавые видения. Она видит только кровь. Христос является ей с окровавленным лицом. Она сама харкала кровью, теряла кровь еще иным образом, в то же время ее природа казалась настолько изменившейся под влиянием страданий, что она становилась влюбленной. На двадцатый день поста она видит свое имя соединенным с именем Жирара. Питавшаяся новыми переживаниями гордость позволяет ей понять ту особую власть, которую Мария (женщина) имеет над Богом. Она чувствует, насколько ангел ниже последнего святого, последней святой. Она видит дворец славы и сливается мысленно с агнцем. В довершение всего она чувствует, как поднимается с земли, поднимается на несколько футов в воздух. Она сама едва поверила бы этому, но одна уважаемая особа, мадемуазель Гравье, уверяет ее в этом. Все приходят, смотрят с удивлением, благоговеют.
Жирар приводит своего коллегу Гринье, который опускается на колени и плачет от радости.
Не осмеливаясь навещать ее каждый день, Жирар часто приглашает ее в иезуитскую церковь. Она отправлялась туда, с трудом передвигая ноги, в час дня, после мессы, во время обеда. В церкви — ни души. Перед алтарем, перед распятием она отдавалась во власть порывов, которые нечестие делало тем более страстными. Мучили ли ее угрызения совести? Ошибалась ли она? Кажется, ее сознание уже тускнело, затемнялось среди этой пока еще искренней и неподдельной экзальтации. Кровавые стигматы, эти жестокие знаки ласк небесного супруга, начинали доставлять ей странное удовлетворение. Радуясь своим обморокам, она находила в них невыразимо сладкую муку, как она сама выражалась, потоки благости, в которые она погружалась «до полного умиления». Сначала эти новые переживания изумили и обеспокоили ее. Она рассказала о них Гиоль, которая улыбнулась, назвала ее глупой, заявила, что это ничего не значит, и прибавила цинично, что и она испытывает нечто подобное.