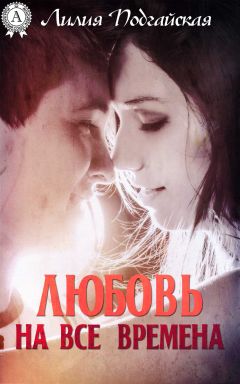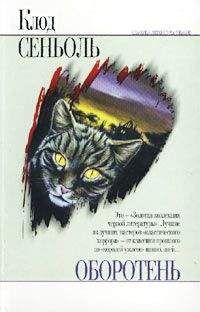Клод Кребийон-сын - Заблуждения сердца и ума
– Меня оно тоже поразило, – заметил я, – и я за него особенно благодарен автору: подобные положения представляются мне очень щекотливыми; из них трудно найти правильный выход.
– А мне кажется, что никакой особенной заслуги тут нет, – возразила она; – объяснение в любви – нечто такое, что делается каждый день и без всяких затруднений; если подобная ситуация на сцене может нравиться, то не существом дела, а новизной трактовки.
– Не могу согласиться с вами, сударыня, – отвечал я; – по-моему, признаться в любви совсем не легко.
– Нет сомнения, – сказала она, – что женщине действительно трудно решиться на признание; при самой пылкой любви тысячи соображений удерживают ее от подобного шага; но мужчине… Надеюсь, вы согласитесь, что мужчина в таком положении не рискует решительно ничем.
– Простите, сударыня, – возразил я, – я как раз считаю, что рискует. Мне кажется, нет ничего унизительнее для мужчины, чем объясниться в любви.
– Право, – воскликнула она, – даже жаль, что эта мысль так нелепа! Она могла бы иметь успех благодаря своей новизне! Как! Мужчине унизительно объясниться в любви?
– Конечно, – ответил я, – если он не уверен, что любим.
– А как же, – возразила она, – прикажете ему узнать, что он любим? Лишь признание мужчины дает женщине право ответить взаимностью. Разве она может – как бы ни было затронуто ее сердце – заговорить первая? Ведь этим она уронит себя в ваших же глазах; более того, она может услышать отказ.
– Очень немногим женщинам, – ответил я, – угрожает такая опасность.
– Она угрожает каждой, – возразила она, – кто позволит себе сделать первый шаг; и сами вы разлюбите даже горячо любимую женщину, если она поможет вам одержать слишком легкую победу.
– Это нелогично, – заметил я; – мне кажется, мы должны чувствовать благодарность к той, кто избавляет нас от лишних тревог.
– Разумеется, – прервала она меня, – но мысли эти не согласуются с правдой жизни. Сейчас вы порицаете мужское тщеславие, но сами поступили бы как все мужчины, если бы любящая вас женщина решилась предупредить ненужные сомнения.
– Ах! Нет, сударыня, я был бы ей бесконечно благодарен, и радость быть избавленным от сомнений лишь увеличила бы мою любовь!
– Если это действительно так, значит, вы составили себе весьма устрашающее представление о такой простой вещи, как объяснение в любви. Что в нем такого ужасного? Вы боитесь, что вас не станут слушать? Это маловероятно; вы стесняетесь сказать, что влюблены? Но почему?
– Все так, сударыня, – сказал я. – Но чего стоит выговорить слова любви, особенно мне; ведь я знаю, что не сумею объясниться изящно.
– Самое изящное объяснение, – ответила она, – не всегда бывает самым трогательным. Остроумие приятно в кавалере, оно забавляет, но не оно убеждает наше сердце; смущение, неумение найти нужные слова, дрожащий голос – вот что для нас опасно.
– Ах, сударыня, – воскликнул я, – уверены ли вы, что эти доказательства любви, которые мне тоже кажутся неоспоримыми, всегда и всех убеждают?
– Нет, – ответила она. – Затруднения, о которых вы говорите, иногда происходят не от любви, а от глупости, и благодарить тут не за что; к тому же мужчины хитры и способны изобразить притворное смятение и страсть, тогда как одушевлены лишь мимолетными желаниями, и потому им не всегда можно верить. Бывает и так, что в нас влюбится совсем не тот, кого избрало наше сердце, и потому, что бы он ни говорил, его речи нисколько нас не трогают.
– Вот видите, сударыня, – ответил я, – выходит, я вовсе не заблуждаюсь, когда страшусь отказа; пожалуй, уж лучше страдать от неуверенности, чем решиться на объяснение и узнать, что тебя не любят.
– Вы, наверно, единственный человек, которого это останавливает, – возразила она. – К тому же вы рассуждаете неверно: гораздо разумнее и даже выгоднее объясниться, чем упорно молчать. Из-за этого упрямого молчания вы можете упустить радость узнать, что вы любимы; а если на ваши чувства и не ответят взаимностью, вы вскоре излечитесь от бесполезной страсти, не сулящей вам ничего, кроме страданий. Но, – прервала она себя, – мы уже долго говорим на эту тему. Если признание в любви кажется вам столь затруднительным делом, – значит, есть женщина, которой вы хотели бы объясниться в любви?
Высказывая это тонкое предположение, госпожа де Люрсе устремила на меня такой пристальный и блистающий взор, что я окончательно потерялся.
– Вы молчите; вы смущены, – продолжала она. – Я вижу, что угадала, но, раскрыв вашу тайну, я не хочу ничего иного, как только вывести вас из заблуждения и быть по возможности полезной. Прежде всего я должна знать, на кого пал ваш выбор; вы молоды, неопытны, вы можете ошибиться. Если она недостойна вашей любви, мне вас жаль; более того: мои увещания помогут вам вырвать из сердца любовь или, вернее, каприз, который еще не пустил в нем корней, питаемых надеждой; тем легче мне будет показать всю его неосновательность. Если же предмет ваш таков, что ни разуму, ни чести нечего возразить, я не только не стану изгонять любовь из вашего сердца, но, напротив, научу вас, как понравиться вашей избраннице, и сама буду следить за вашими успехами.
Такое предложение со стороны госпожи де Люрсе удивило меня; хотя в тоне ее голоса вовсе не было строгости, а глаза говорили о чувствах самых нежных, я не нашел в себе сил ответить. Взор мой скользил по ее лицу, не смея на нем остановиться; я боялся, что она заметит мое смятение, и ответил лишь вздохом, который напрасно старался от нее скрыть.
– Ах, как же вы молоды! – заметила она ласково. – Теперь я не сомневаюсь, что вы влюблены; но молчание лишь усиливает ваши муки. Как знать? Возможно, вы любимы гораздо сильнее, чем любите; неужели вас ничуть не пленяет мысль услышать ответное признание? Короче говоря, Мелькур, я жду; дружеское расположение к вам вынуждает меня говорить в таком тоне; признайтесь, кого вы любите.
– Ах, сударыня, – ответил я, весь дрожа, – я буду наказан, если решусь на это.
При создавшихся обстоятельствах я не мог бы выразиться яснее; госпожа де Люрсе не могла превратно истолковать мои слова, но этого ей было мало, и она притворилась, будто не понимает.
– Что вы хотите сказать? – спросила она, смягчив свой тон, – вы будете наказаны, если решитесь? Неужели вы думаете, что я открою вашу тайну посторонним?
– Нет, – отвечал я, – я не этого боюсь; но, сударыня, если бы я любил даму, подобную вам, к чему привело бы меня признание?
– Вероятно, ни к чему, – ответила она, краснея.
– Значит, я прав, что храню молчание.
– Но не менее вероятно, что вы добились бы успеха: женщина, подобная мне, может оказаться не бесчувственной, и даже в большей мере, чем всякая иная.
– Нет, вы не могли бы полюбить меня! – вскричал я.
– Мы отклонились от темы, – сказала она, – и не совсем понятно, при чем тут я. Вы ускользаете от ответа искусней, чем можно было бы от вас ожидать. Но допустим на минуту, что речь обо мне: какая вам беда, если я вас и не люблю? Мы стремимся внушить любовь лишь тем, кого сами любим. А я никак не могу заподозрить вас в подобных чувствах ко мне; во всяком случае, я бы этого не хотела.
– Я бы тоже хотел, сударыня, чтобы этого не было; я вижу по вашему испугу, что был бы очень несчастлив из-за вас.
– Нет, – быстро сказала она, – дело вовсе не в том, что я боюсь вашей любви: ведь это означало бы, что вы уже на полпути к успеху. Нам страшен лишь тот вздыхатель, которого мы сами готовы полюбить. Мне не хотелось бы дать вам повод думать, что я уж так вас боюсь.
– Я ни на что подобное и не надеюсь, – ответил я. – Но все же ответьте: если бы я был влюблен в вас, как бы вы поступили?
– Неужели вы рассчитываете получить утвердительный ответ на одно лишь ваше предположение?
– Решусь ли признаться, сударыня, что это отнюдь не предположение?
В ответ на столь недвусмысленное признание госпожа де Люрсе вздохнула, покраснела, устремила на меня томный взгляд, потом опустила глаза и, глядя на свой веер, умолкла.
Пока длилось молчание, сердце мое осаждали самые противоречивые чувства. Сделанное над собой усилие совсем опустошило меня; я боялся получить отказ и почти желал, чтобы она подольше не отвечала. Тем не менее я объяснился в любви и не хотел, чтобы мои усилия пропали даром.
– Что же вы посоветуете мне теперь, сударыня? – сказал я наконец, едва ворочая языком от страха. – Скажите, чего я должен ждать от подобного выбора? Неужели вы будете так жестоки, что после стольких знаков дружбы и доброжелательства откажетесь прийти мне на помощь в таком важном для меня деле?
– Вам нужен лишь совет? В совете я вам не откажу. Но если то, что вы сказали – правда, вряд ли он будет вам приятен.
– Неужели вы сомневаетесь в моей искренности?
– Я бы желала этого из дружбы к вам. Чем искренней ваши чувства, тем несчастней вы будете. Вы же и сами должны понимать, Мелькур, что я не могу отвечать вам взаимностью. Вы молоды, и молодость ваша, которая в глазах многих женщин явилась бы еще одним достоинством, будет для меня – даже если бы я испытывала самую пылкую любовь к вам – вечным и неизменным основанием никогда не уступить этим чувствам. Вы не сможете достаточно сильно любить меня или будете любить слишком сильно. И то и другое было бы одинаково гибельно для меня. В первом случае мне придется выносить ваши причуды, капризы, пренебрежение, неверность – словом, все страдания, какие влечет за собой несчастная любовь. Во втором случае вы слишком самозабвенно предадитесь страсти и погубите меня своей любовью, не знающей ни меры, ни предела. Страсть всегда приносит женщине беду; но мне она принесет еще и позор; я бы никогда не простила себе подобной неосторожности.