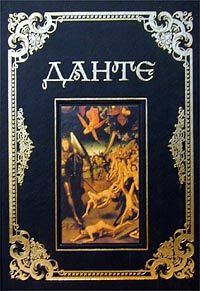Данте Алигьери - Сочинения
Далее, когда в канцоне говорится: «Наш скудный разум ею превзойден», я прошу извинения за то, что мало могу сказать об этом блаженстве по причине его необъятности. Нужно отметить, что ее райские черты в какой-то степени ослепляют наш разум, поскольку не все доступно взору нашего разума: например, Бог, вечность или первоматерия несомненнейшим образом видимы и мы полностью верим в их существование, но сущности их познать не можем; и только отрицая некоторые их свойства, мы способны приблизиться к их постижению, но не иначе. Поистине кое-кто может здесь сильно усомниться в том, способна ли мудрость сделать человека счастливым, не будучи в состоянии показать ему решительно все; ведь человек от природы стремится к познанию и не может достигнуть блаженства, не удовлетворив своего желания. На что можно ясно ответить, что природное стремление к чему-либо соразмерно возможностям того, кому оно принадлежит, — иначе желание противоречило бы самому себе, что невозможно, и природа породила бы его втуне, что также невозможно. Желание противоречило бы самому себе потому, что, стремясь к своему совершенству, оно стремилось бы к своему несовершенству, ибо оно стремилось бы к тому, чтобы всегда оставаться желанием, и к тому, чтобы стремление его никогда не осуществилось (в эту ошибку впадает проклятый скупец, не замечая, что жаждет вечной жажды в погоне за недостижимой суммой). Природа же породила бы такое желание потому втуне, что оно не было бы направлено к определенной цели. Вот почему человеческие желания в этой жизни соразмерны пониманию того, что может быть здесь достигнуто, и если выходят за этот предел, то лишь в силу заблуждения, не предусмотренного природой. Мера желания предусмотрена и ангельской природой и ограничивается той степенью мудрости, которая доступна природе каждого существа. Потому-то святые друг другу и не завидуют, ибо любой из них достигает цели своего стремления, которое соразмерно благодати, отпущенной ему природой. И так как познание сущности Бога, да и не только Бога, нашей природе недоступно, мы, естественно, и не стремимся ее познать. Таким образом, сомнение рассеяно.
Далее, говоря:
«Вот мечет пламя огненный покров
Ее красы…» —
канцона переходит к другой райской радости, а именно — от вторичного блаженства к первичному, проистекающему из красы нашей благородной дамы. При этом надо помнить, что нравственные принципы и есть краса Философии; ведь подобно тому, как красота телесная является результатом должной гармонии членов, так и красота мудрости, которая, как говорилось, и есть тело Философии, получается от согласованности нравственных сил, которые и придают ей такую привлекательность. А потому я и говорю, что ее краса, то есть ее нравственные принципы, источает пламя, иными словами, чистое вожделение, порождаемое радостями, основанными на нравственности; к тому же вожделение это отрывает нас от природных пороков, не говоря уже о других. А отсюда и возникает то блаженство, которое Аристотель определяет в первой книге «Этики» как состояние, согласное с добродетелью в совершенной жизни. А когда канцона говорит:
«Ведь гордая краса не для сердец
Возвышенных…» —
она продолжает прославлять благородную даму, призывая людей за ней следовать и возвещая им ее благодеяния, которые сделают каждого, кто последует за ней, лучше. Поэтому канцона и говорит: «Пусть взглянут на смиренья образец!» — желая тем самым сказать: пусть та душа, которая слышит, как красоту нашей благородной дамы порицают за то, что красота ее кажется не такой, какой она должна была бы казаться, — пусть такая душа взглянет на этот образец.
При этом надо помнить, что душу украшают нравы, то есть те добродетели, которые иногда от тщеславия, а порой и от гордыни становятся менее прекрасными и привлекательными, как об этом будет сказано в последнем трактате. А потому я говорю, что, дабы уберечься от ошибочных суждений об этой даме, нужно приглядеться к ней и заглянуть туда, где она служит образцом смирения, то есть в ту часть ее, которая именуется нравственной Философией. И добавлю, что, взглянув на нее — я имею в виду мудрость — в этой ее области, каждый порочный человек снова сделается праведным и добрым; потому я и говорю: «Вот та, что в мире грешников смирила…» — то есть что она спокойно возвращает на должный путь всякого, кто сбился с него. Наконец, для высочайшего восхваления мудрости я называю ее матерью всего и началом всякого движения, говоря, что Бог начал сотворение мира с нее, и в особенности движение неба, порождающее все сущее и служащее началом и толчком для всякого другого движения: «…так предназначил Движущий светила». Иными словами, в Божественной мысли, которая и есть разум, мудрость уже присутствовала, когда Бог создавал мир; из чего следует, что его создала мудрость. А потому Соломон и говорил в Книге Притчей от лица Премудрости: «Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли, — тогда я была при Нем художницею и была радостию всякий день, веселясь пред лицем Его во все время…»
О вы, что хуже мертвецов, вы, бегущие от ее дружбы, откройте глаза ваши и глядите: ведь прежде, чем вы были, она любила вас, налаживая и устраивая ваше становление; а после того, как вы были созданы, она, дабы направить вас, пришла к вам, приняв ваше обличье. И если вы не все можете предстать перед ее очами, почтите ее в ее друзьях и следуйте наставлениям их, как людей, возвещающих волю этой предвечной Вседержительницы, — не будьте глухи к речам Соломона, который вам об этом твердит, говоря: «Стезя праведных как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня», следуйте по их стопам, любуясь их деяниями, которые должны быть для вас светочами на путях этой кратчайшей жизни. И на этом можно закончить толкование истинного смысла настоящей канцоны. Поистине последняя строфа, являющаяся заключением, очень легко может быть сведена к буквальному ее толкованию, кроме того места, где я действительно назвал эту госпожу «гордою и злою». При этом надо помнить, что сначала, представляя себе Философию, я видел лишь ее тело, то есть мудрость: «гордая», она мне не улыбалась, поскольку ее доказательств я еще не понимал, и «злая», так как она на меня не глядела, то есть так как я не мог уяснить себе ее доказательств; виноват же во всем этом был я сам. Таков, с учетом буквального толкования, смысл аллегории, содержащейся в заключительной строфе канцоны. После чего настало время закончить настоящий трактат, дабы проследовать дальше.
Трактат четвертый
Канцона третья
Стихов любви во мне слабеет сила.
Их звуки забываю
Не потому, что вновь не уповаю
Найти певучий строй,
Но я затем в молчанье пребываю,
Что дама преградила
Мою стезю и строгостью смутила
Язык привычный мой.
Настало время путь избрать иной.
Оставлю стиль и сладостный и новый,
Которым о любви я говорил.
Чтоб я не утаил,
В чем благородства вечные основы,
Пусть будут рифм оковы
Изысканны, отточены, суровы.
Богатство — благородства не причина,
А подлая личина.
Призвав Амора, песню я сложил.
В очах он дамы скрыт; лишь им полна,
В саму себя влюбляется она.
Того, кто правил царством, знаю мненье:
Богатство порождает
Издревле знатность, их сопровождает
Изящных нравов цвет.
Иной же благородство утверждает
Не в добром поведенье,
А только в прадедов приобретенье —
В нем благородства нет!
Кто злато мерит древностию лет,
Богатство благородством почитая,
Тот заблуждается еще сильней.
Но в памяти людей
Укоренилась эта мысль простая.
Так ложных мыслей стая
Летит. Себя отменнейшим считая,
Вот некто говорит: «Мой дед был славен,
Кто знатностью мне равен?»
А поглядишь — так нет его подлей.
Для истины давно он глух и слеп;
Как мертвеца, его поглотит склеп.
И тот, кто молвил, что людей природа
Лишь дерево с душою,
Всю ложь, идя дорогою кривою,
Домыслить не сумел.
Ошибку императора не скрою:
Неверно, что порода
Важней всего, затем богатство рода
(Так он сказать хотел).
Богатство — благородства не предел,
Не уменьшает и не умножает
Его, затем что низменно оно.
То примет полотно,
Во что себя художник превращает.
И башню не сгибает
Река, что издалека протекает.
Богатства подлы низкие желанья,
Но где предел стяжанья?
Все золотое манит нас руно.
Дух истиннолюбивый и прямой
Все тот же и с мошною, и с сумой.
«Не стать мужлану мужем благородным —
Его отец не знатен», —
Твердят всечасно. Этот взгляд превратен.
Вступают люди в спор
Сами с собой, но смысл им непонятен.
Им кажется природным,
Что только время делает свободным
И знатным. Этот вздор
С упрямством защищают до сих пор:
«Мы знатны все, или мы все мужланы.
Коли не так — то вечен род людской».
Но с мыслию такой
Не соглашусь. Поймите, нежеланны
Для христиан обманы
И домыслов смущающих туманы.
Так вот, отвергнув лживое ученье,
Скажу я в заключенье,
Чтоб обрести достойных мыслей строй,
О знатности — как в этот мир сошла
И благородных каковы дела.
От корня одного берут начало —
В них обещанье рая —
Все добродетели, нас побуждая
Идти в лучах светил.
И Этика, премудрость отражая,
Как истину — зерцало,
Нам только в середине указала
Игру свободных сил.
Так благородства свет предвозвестил
Нам добродетель; подлое деянье
Таит лишь зло, досаду и печаль,
Но светит нам мораль
И благородства радостно сиянье;
И в них одно звучанье
В честь одного истока мирозданья.
Одно ль, другое тайно производит
Иль каждое восходит
К началу третьему? Поймешь едва ль.
Но добродетель выше и ценней,
Чем благородство, — так сужу о ней.
Где добродетель, там и благородство
(Обратный ход неверен!).
Так, где звезда, там небо, но безмерен
Без звезд простор небес.
Тот в юной даме, кто Амору верен,
Увидит превосходство
Стыдливости, не крепости, — господство
Совсем иных чудес.
И как темно-пурпурный не исчез
Цвет в черном, но от черного родится,
Так в благородстве крепости исток.
И чтоб никто не смог
Наследным благородством возгордиться
(Как если б воплотиться
Полубожественный в нем дух стремится!), —
Скажу, что благородство нам дарует
Лишь Бог. И тот ликует,
Дары приняв, кто низость превозмог.
Но семена бросает Божество
Лишь в гармоническое существо.
Душа, украшенная даром Бога,
До смертного предела,
С тех пор как узы ощутила тела,
Таиться не вольна.
Она нежна, стыдлива и несмела
У юности порога;
Прекрасная, она взирает строго,
Гармонии полна.
Созрев, она умеренна, сильна,
Полна любви и в нравах куртуазна,
Верна, как меч, висящий у бедра;
А в старости — щедра
Предвиденьем, и мудростию властна,
И, радуясь, согласна
О благе общем рассуждать бесстрастно.
Достигнув дряхлости, она стремится
С Всевышним примириться,
Как надлежит, близ смертного одра,
Благословив былые времена.
Но с многих глаз не спала пелена.
Ты, против заблуждающихся, в путь
Отправься; не забудь,
Канцона, там, где дама, — в вышнем круге —
Все рассказать о должности твоей.
Ты, верно, скажешь ей:
«Я о твоем благовествую друге».
I.