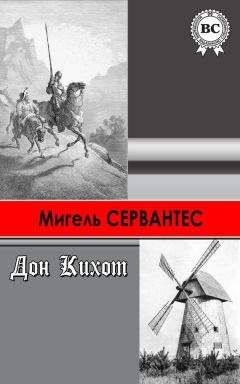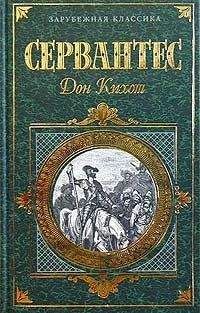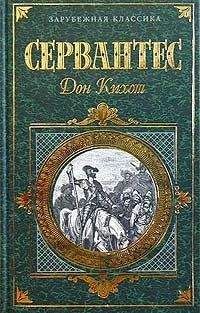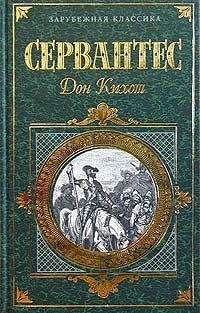Карл Мориц - Антон Райзер
Но что обидело его пуще всех остальных унижений и чего он никогда не мог забыть госпоже Фильтер, так это несправедливое обвинение, отвести которое он не сумел никакими доводами.
Госпожа Фильтер взяла у одной из своих родственниц маленькую девочку трех-четырех лет на воспитание. На Рождество, решив преподнести ребенку сюрприз, она установила елку, украсила ее свечками и увешала изюмом и орехами. Потом она ушла за девочкой, оставив Райзера в комнате одного рядом с елкой. И случилось так, что, когда она снова входила, то – быть может, от движения двери – елка со всеми свечами упала. Райзер бросился подхватить ее, но не успел и тут же убрал руку, вид же у него был такой, будто он все время только и делал, что возился с елкой, и теперь, когда госпожа Фильтер вошла в комнату, испугался и уронил деревце. Госпожа Фильтер решила, что Райзер хотел полакомиться изюмом и орехами и тем отравил ей и девочке невинную радость.
Это позорящее его подозрение она недвусмысленно высказала Райзеру, и чем ему было оправдаться? Свидетелей нет. Обстоятельства говорили против него. Одно то, что он подвергнулся подобным подозрениям, унижало его в собственных глазах; в ту минуту он готов был провалиться сквозь землю, исчезнуть навсегда.
Такое состояние грозит душе параличом, а исцелить болезнь ох как непросто. В подобные минуты человек мечтает исчезнуть и отдаст жизнь, лишь бы спрятаться подальше от мира.
Вера в себя, столь же необходимая для моральной деятельности, как для движений телесных необходимо дыхание, получает в этом случае сокрушительный удар, оправиться от которого чрезвычайно трудно.
Впоследствии, если при нем искали какую-нибудь вещицу, опасаясь, что она украдена, он невольно краснел и смущался потому только, что живо представлял себе, что другие, даже не отдавая себе в этом отчета, могут принять его за преступника. Вот свидетельство, сколь часто смущение и замешательство обвиняемого толкуется как его молчаливое признание в совершенном преступлении. Испытав тысячу незаслуженных унижений, человек может исполниться презрения к самому себе и, будучи невинен в своем сердце, не посмеет даже поднять глаза, тем подавая повод истолковать свое поведение как признак нечистой совести. И горе ему, если попадет он во власть мнимого прозорливца, который по первому же впечатлению от лица судит о характере.
Среди всех чувств, свойственных человеку, самым мучительным мы бы сочли стыд в его горчайшей мере.
Райзер за свою жизнь нередко его испытывал, не раз случались минуты, когда он готов был изничтожить самого себя – если, например, принимал на свой счет приветствие, похвалу, приглашение и т. п., которые на самом деле к нему не относились. Стыд и смущение, в какие повергала его такая ошибка, невозможно передать.
И совсем особое чувство возникает, когда по ошибке примешь на свой счет чей-либо учтивый поклон, предназначенный другому. Сама мысль, что ты возомнил о себе слишком много, содержит в себе нечто крайне унизительное. К тому же уверяешься, что оказался кругом смешон. Словом, никогда Райзер не чувствовал себя ужаснее, чем в этом пристыженном состоянии, когда любой пустяк приводит в отчаяние. Все остальное не столь сильно затрагивало его внутреннее существо, его «я». Именно это чувство более всего руководило и его пылким состраданием другим людям. Чтобы уберечь человека от стыда, он бы сделал куда больше, чем для спасения его от истинной опасности, ибо стыд казался ему жесточайшим из несчастий, могущих постигнуть человека.
Однажды он находился в доме ганноверского купца, который имел привычку, глядя на одного человека, обращаться к другому. Этот купец, смотря в лицо Райзеру, пригласил к столу другого гостя, находившегося в той же комнате, Райзер же решил, что приглашают его, и вежливо отказался. На это купец сухо возразил: «Я не вас имел в виду!» Это «Я не вас имел в виду!», да еще произнесенное таким сухим тоном, произвело на Райзера столь сильное действие, что он едва не сгорел со стыда. Это «Я не вас имел в виду!» преследовало его повсюду и заставляло его голос неуверенно дрожать в присутствии важных персон; гордость его так и не смогла вполне оправиться от этого удара.
«Как только он мог подумать, что его приглашают к столу!» – так истолковал Райзер это «Я не вас имел в виду!». В ту минуту он чувствовал себя столь незначительным, никчемным и ничтожным, что собственное лицо, руки, все его существо стало для него обузой, сам же он, стоя посреди комнаты, являл собою глупую и нелепую фигуру, а нелепость и глупость его поведения была ему очевидна более, чем кому-либо другому.
Встреть Райзер человека, который принял бы в его судьбе искреннее участие, возможно, подобные происшествия не ранили бы его так глубоко. Но нити участия, связывавшие его судьбу с другими людьми, были столь тонки, что мнимый разрыв одной из них заставлял его бояться, что и остальные вдруг лопнут, и ему начинало чудиться, что все перестали обращать на него внимание как на существо, которое незачем и принимать в расчет. Стыд – аффект не менее сильный, чем остальные, и весьма странно, что в известных случаях он не приводит к смертельному исходу.
Страх предстать перед людьми в смешном виде порой вырастал в Райзере до таких ужасающих размеров, что он готов был пожертвовать всем, даже собственной жизнью, чтобы его избежать.
Infelix paupertas, quia ridiculos miseros facit,
Тяжек удел бедняка, ибо бедность
Жалкого на смех поднять позволяет…
Никто не воспринимал этих строк острее, чем он, так опасавшийся стать посмешищем. Но был и такой вид смешного, который казался ему сноснее прочих, – когда люди просто смеялись над какой-либо странностью, хотя и не желая ей подражать, но и не считая ее чем-то презренным.
Если он, например, слышал за спиной шепот: «Странный человек этот Райзер, вечерами в полной темноте трижды обходит городской вал и сам с собою разговаривает вслух, повторяя школьный урок», – его это не обижало, больше того, он чувствовал себя польщенным, представая перед другими в столь необычном свете. Но когда Иффланд высмеял его стихи:
К вам, к вам, о доблестны науки,
Души простерты страстны руки,
это его обидело и повергло в такой стыд, что он многое бы отдал, лишь бы эти стихи никогда не были написаны.
Проучившись три месяца пению у кантора, Райзер достиг наконец заветной мечты – стал посещать хор, где у него определили альтовый голос. Своему новому положению ученика-хориста он беззаботно радовался несколько недель, пока стояла хорошая погода. Он получал величайшее наслаждение, слушая арии и мотеты, беседуя со своими товарищами во время прогулок по городским улицам.
Такой хор во многом напоминает бродячую театральную труппу, актеры которой делят друг с другом радости и горести, погожие дни и пасмурные, что тесно их сближает.
Но больше всего радовала Райзера надежда получить голубой плащ, в котором рассчитывал долго щеголять, ибо этот плащ был похож на священническое одеяние. Но и эта надежда больно его обманула, так как госпожа Фильтер – в целях экономии – велела сшить ему плащ из двух старых голубых фартуков, а в этом наряде он не слишком блистал среди других учеников.
Среди хористов Райзер приметил одного, сильно отличавшегося от всех остальных. Даже не слышав его речи, можно было догадаться, что он иностранец: вся его мимика и манеры обличали больше живости и проворства, чем свойственно чопорным и неповоротливым ганноверцам. Райзер никак не мог отвести от него глаз, а когда тот говорил – не переставал удивляться ловко скроенным выражениям верхнесаксонского диалекта, которым этот юноша пользовался. В сравнении с ним ганноверцы изъяснялись топорно и неизящно. Префектом хора был великовозрастный и вечно нетрезвый малый, с которым этот иностранец все время вступал в перепалку и весьма остроумно и язвительно отвечал на его попытки показать свое превосходство. Когда же тот заявил однажды, что слишком давно состоит префектом, чтобы выслушивать колкости от желторотого юнца, иностранец ответил, мол, не велика честь в таком немалом возрасте все еще оставаться префектом. Несомненное преимущество в остроумии, которым иностранец мигом сбил спесь с префекта, заставило Райзера внимательнее к нему присмотреться, и когда он осведомился о его имени, оказалось, что того зовут Райзер и он уроженец Эрфурта.
Райзера чрезвычайно удивило, что сей молодой человек, так ему полюбившийся, носит одно с ним имя, хотя из-за отдаленности места рождения едва ли находится с ним в родстве. Он бы охотно тут же с ним познакомился, но не решался сделать первый шаг, поскольку тезка был на несколько классов старше. К тому же он побаивался его насмешливого ума, коему вовсе не мнил оказаться вровень, если паче чаяния сам сделался бы предметом насмешек. Между тем их сближение происходило само собой: Филипп Райзер все внимательнее приглядывался к тихой и сосредоточенной натуре Антона, подобно тому как Антона привлекал живой нрав Филиппа, и так, несмотря на всю разность характеров, они стали друзьями, выделив друг друга среди множества сверстников.