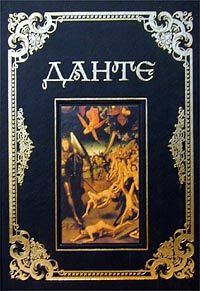Данте Алигьери - Сочинения
И после того, как я привел доводы, я прошу их меня понять и говорю: «Души услышьте скорбные рыданья». Известно, что, произнося речь, я должен прежде всего позаботиться о том, чтобы убедить своих слушателей, что достигается украшением; это и есть начало всех других способов убеждения, хорошо известное риторам. Самое же сильное убеждение — обещание сказать новые и очень важные вещи, чтобы привлечь внимание аудитории; я, по просьбе слушателей, и перехожу к этому способу убеждения, то есть к украшению, возвещая им свое намерение сказать о новом, а именно о противоречии в моей душе, и также о важном — о мощи их звезды. И это я и выражаю в последних словах первой части:
«Души услышьте скорбные рыданья.
Вот в спор вступает дух астральный с ней
В сиянье ваших действенных огней».
Для полного понимания этих слов скажу, что упомянутый [дух] не что иное, как постоянная мысль о том, как бы возвеличить и украсить новую даму, о которой идет речь; душою же названа некая другая мысль, сопровождаемая согласием, которая, восставая против первой, возвеличивает и украшает память о прославленной Беатриче. Но так как разум в своем последнем волеизъявлении, то есть в согласии, все еще придерживался мысли, которую подкрепляла память, я называю одну мысль душою, а другую духом, подобно тому как городом мы называем тех, кто им управляет, а не тех, кто с ним борется, хотя и те и другие — горожане. Я говорю также, что упомянутый дух появляется вместе с лучами звезды; ибо надо знать, что лучи каждого неба — это путь, по которому сила небес нисходит к земным созданиям. Лучи не что иное, как некое сияние, исходящее из светоносного начала и проходящее через воздух до освещенного предмета; источником же света является часть звезды, так как остальное небо просвечивает, то есть оно прозрачно. Вот почему я говорю, что этот дух, то есть эта мысль, исходит не из всего третьего неба, но только из звезды Венеры. Она же благодаря благородству ее двигателей обладает величайшей властью над нашими душами и над другими нашими свойствами, несмотря на то, что даже при наибольшем приближении к земле она отстоит от нас на сто шестьдесят семь земных радиусов, если не больше, считая радиус равным трем тысячам двумстам пятидесяти милям. Таково буквальное толкование первой части канцоны.
VII.
Сказанных выше слов достаточно, чтобы можно было понять буквальный смысл первой части канцоны. Перехожу ко второй, в которой обнаруживается испытанный мною внутренний разлад. Эта часть имеет два раздела: в первом, то есть в первой строфе, я описываю, откуда проистекают свойства этих происходящих во мне разногласий; далее, во второй строфе этой части, или третьей строфе всей канцоны, я привожу слова обеих сторон, однако в первую очередь слова той стороны, которая проигрывала.
Чтобы смысл первого раздела стал очевидным, надо знать, что название вещей должно соответствовать наиболее благородной стороне их существа, подобно тому как название человека соответствует его разуму, а не его чувству или чему-либо другому, менее благородному. Поэтому, когда говорят, что человек живет, следует понимать, что он пользуется своим разумом, в чем и заключается его особая жизнь и проявление наиболее благородной стороны его существа. Отсюда следует, что тот, кто отклоняется от разума и пользуется только чувственной стороной своего существа, живет не как человек, а как скотина; по словам отменнейшего Боэция, «живет как осел». Я смело утверждаю, что, поскольку мышление есть действие, свойственное разуму, постольку животные, разумом не обладающие, и не мыслят, причем я имею в виду не только низших животных, но и тех, которые, имея облик человека, дух имеют овцы или какого-либо другого отвратительного животного. Итак, я говорю, что жизнь моего сердца, то есть моего внутреннего существа, сводилась обычно к одной сладостной мысли (soave то же, что suaso, а именно ставший прекрасным, сладостным, приятным и услаждающим), мысли, не раз пребывавшей у ног Господина тех, к кому я обращаюсь, то есть Бога; иначе говоря, я, мысля, созерцал царство блаженных. Я называю конечную причину, почему я возносился, когда говорю:
«…внимало сердце, радостью дыша,
Как дама в царстве света прославлялась»,
чтобы дать понять, что ее благодатное явление убеждало и убеждает меня в том, что она на небе. Я, часто думая о том, что это узрение стало для меня возможным, ходил как бы вознесенный в небеса.
Далее я показываю действие этой мысли, чтобы дать представление, сколь сладостна она была, ибо сила ее заставляла меня мечтать о смерти и стремиться туда, где обреталась дама. Об этом я говорю в следующих словах:
«Звучала сладостно о ней хвала.
«К ней устремлюсь», — промолвила душа».
Такова причина одного из разногласий, бывшего во мне. И надо заметить, что здесь о возносившемся для лицезрения блаженной говорится «мысль», а не «душа», ибо это была мысль, особо направленная, соответствующая действию. «Душа», как говорилось в предыдущей главе, обозначает мысль вообще в сочетании с согласием.
Далее, когда я говорю:
«Но некий дух летел ко мне, спеша,
И эту мысль изгнал…» —
я вскрываю причину другого разногласия, ибо, подобно тому как эта возвышенная мысль стала самой моей жизнью, так же точно появляется и другая мысль, прекращающая первую. И я говорю «изгнал», желая показать, что это — противоположность, ибо одна противоположность естественно бежит от другой и та, что бежит, свидетельствует о том, что она удаляется из-за своей недостаточной силы. Я утверждаю, что эта вновь появившаяся мысль достаточно сильна, чтобы захватить меня и покорить всю душу, и настолько властна, что сердце мое, все мое внутреннее трепещет, а мое внешнее обнаруживает это в новом, изменившемся моем обличье.
Вслед за этим я показываю силу этой новой мысли через ее действие, говоря, что она заставляет меня любоваться некой дамой и произносит соблазнительные слова, то есть рассуждает перед очами моей умственной страсти, чтобы легче меня склонить, обещая мне, что в ее взоре — спасительное свойство. И чтобы умудренная душа легче могла поверить, новая мысль говорит, что человек, «боящийся вздохов и трудов», не должен смотреть в глаза этой дамы. Отличный риторический прием, употребленный тогда, когда кажется, что внешне вещь как бы теряет свою красоту, внутри же становится поистине еще красивее. Новая любовная мысль не могла лучше убедить мой ум согласиться с ней и принять ее, чем она это сделала глубоким рассуждением о силе, таящейся в очах дамы.
VIII.
Когда было показано, как и почему рождается любовь и как боролись во мне противоречия, надлежит приступить к раскрытию смысла той части, в которой во мне борются различные помышления. Сначала следует сказать о том, что касается души, о прежней моей мысли, а потом уже о последней, приберегая главное на конец; ибо то, что говорится в заключение, лучше запечатлевается в уме слушателя. Итак, я собираюсь рассуждать скорее о том, что создается действием тех, к кому я обращаюсь, чем о том, чту их действием разрушается, потому разумно сначала обсудить состояние стороны, которая распадалась, и лишь потом той, которая зарождалась.
Говоря по правде, здесь возникает сомнение, мимо которого нельзя пройти, не разъяснив его. Иной мог бы сказать: «Поскольку любовь есть действие тех разумных существ, к которым я обращаюсь, а первая любовь тоже любовь, как и последующая, почему же сила этих существ одну любовь разрушает, а другую порождает? Ведь прежде всего эта сила должна была бы спасать первую на том основании, что каждая причина любит свое следствие и, любя первую, спасает и вторую». На этот вопрос можно легко ответить; действие этих небесных созданий — любовь; а так как спасать любовь они могут только в тех существах, которые подчиняются их круговращению, то они переносят ее из области, которая им не подвластна, в ту, которая им подчинена, иначе говоря, из души, ушедшей из этой жизни, в душу, в ней пребывающую. Подобно этому, человеческая природа переносит человеческую сущность от отца к сыну, сохраняя ее, так как свои проявления она не может навсегда сохранить в отце. Я говорю «проявления», ибо душа и тело, соединенные вместе, являются действием первой; душа, покинув тело, постоянно пребывает в природе, превышающей естество человеческое. Так разрешается вопрос.
И так как здесь я коснулся бессмертия души, я позволю себе небольшое отступление; ведь, рассуждая о бессмертии, хорошо будет закончить разговор о той живой, блаженной Беатриче, о которой я в этой книге, как было мною решено, говорить больше не намереваюсь. Я утверждаю, что из всех видов человеческого скотства самое глупое, самое подлое и самое вредное верить, что после этой жизни нет другой; в самом деле, если мы перелистаем все сочинения как философов, так и других мудрых писателей, все сходятся на том, что в нас есть нечто постоянное. Об этом, по-видимому, и хочет сказать Аристотель в книге «О душе»; об этом же имел намерение говорить каждый стоик, так утверждает и Туллий, особенно в своей малой книге «О старости». Об этом стремится сказать и любой поэт, придерживающийся языческой веры. Так учат и представители разных религий: иудеи и сарацины, татары и многие другие, живущие согласно тому или другому закону. Если бы все они ошибались, последовало бы нечто настолько невозможное, что даже повесть об этом была бы ужасна. Всякий уверен, что человеческое существо самое совершенное из всех других существ в этом дольнем мире; этого никто не отрицает. Аристотель в двенадцатой книге «О животных» подтверждает, что человек самое совершенное из всех животных. Несомненно, что многие живущие целиком смертны, подобно неразумным скотам, и, пока существуют, лишены надежды на другую жизнь, но если бы наша надежда была пустой, то несовершенство наше оказалось бы большим, чем любого другого животного. Заметим также, что было уже много людей, жертвовавших этой жизнью ради жизни иной. Если бы самое совершенное животное, а именно человек, оказалось бы самым несовершенным — что невозможно, — его разум, высшее его совершенство, сделался бы для него причиной величайшего его изъяна, между тем очевидно, что утверждать следует как раз обратное. Разве из отрицания бессмертия не следовало бы, что природа вселила надежду в человеческие умы наперекор самой себе, поскольку уже говорилось, что многие выбрали смерть тела, чтобы жить в другой жизни. Предположить что-либо подобное невозможно.