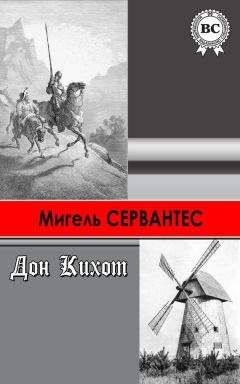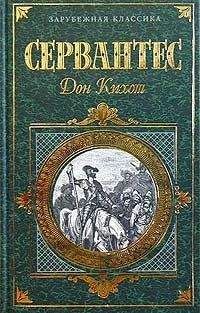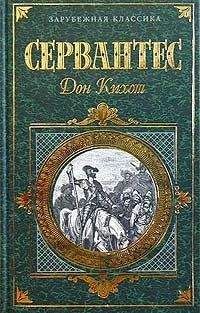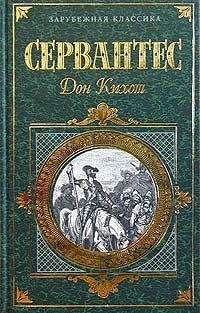Карл Мориц - Антон Райзер
Во все время разговора Райзеру казалось, что в выражении лица и поведении пастора Маркварда сквозит нечто важное, о чем тот не хочет говорить, но лишь до поры; в этом предположении его еще сильнее утвердили таинственные недомолвки алтарника гарнизонной церкви, который на своих занятиях, также посещаемых Райзером, всегда ставил ему стул, остальных же сажал на скамьи. По окончании урока он, обращаясь к Райзеру, обычно говаривал так: «Смотрите в оба и помните, вы на особом счету. Вам уготовано нечто великое!» – и прочее в таком же роде, отчего Райзер стал мнить себя более важной персоной, чем считал прежде; его мелкое тщеславие было более чем удовлетворено и зачастую преглупо сказывалось в его походке и физиономии, когда он порой вышагивал по улице, напуская на себя важный и сановитый вид всенародного наставника, как то бывало с ним и в Брауншвейге, особенно если на нем были надеты черная жилетка и панталоны. Походкой он подражал молодому священнику, занимавшему в то время две должности – больничного проповедника в Ганновере и конректора лицея, поскольку тот держал подбородок особым образом, восхищавшим Райзера.
Трудно представить себе человека, полнее наслаждавшегося своим счастьем, нежели Райзер, ожидавший в ту пору великих уготованных ему даров. Это донельзя распаляло его воображение. А поскольку час, когда он будет допущен к причастию, неуклонно приближался, в нем опять стали возрождаться все те мечтательные идеи, которыми он заполонил голову еще в Брауншвейге; сюда добавлялось и воздействие уроков гарнизонного алтарника, который, рассказывая об аде и рае, нагонял на школьников, проходивших у него подготовку к причастию, такого страха и ужаса, что они начинали трястись, к чему, правда, примешивалось у них некое приятное чувство, с каким люди обыкновенно внимают рассказам о страшном и ужасном, самому же алтарнику доставляло удовольствие доводить своих слушателей до дрожи, вызывало у него слезы умиления, которые добавляли еще толику торжественности его вечерним речам, когда он стоял среди учеников под лампой, освещавшей класс.
Пастор Марквард тоже еженедельно проводил несколько занятий, на которых готовил будущих причастников, однако сказанное им далеко не так потрясало души, как речи его алтарника, хотя Райзеру представлялось как раз более связным и удачно выраженным. Ничто так не льстило Антону, как один пример, приведенный пастором Марквардом в разъяснение тезиса, что верующие суть Божии дети: он выбирал одного из юных слушателей, велел ему подойти к себе и беседовал с ним особо, словно тот ему ближе остальных учеников – точно так же и Божии чада ближе к Богу, чем прочие люди. Так вот, Райзер верил, что среди всех учеников пастор Марквард лишь к нему одному относится по-настоящему участливо, – но, как ни льстила эта мысль его тщеславию, вскоре она же наполнила его несказанной печалью из-за того, что другие не могут разделить с ним этого счастья и будто бы навсегда отлучены от общения с пастором Марквардом. Сходное чувство он испытал однажды в раннем детстве, когда тетка купила ему в лавке какую-то игрушку, и он, выйдя на улицу, держал ее в руках, но тут, прямо у дверей, увидел сидящую на земле оборванную девочку примерно своего возраста, которая при виде чудесной игрушки изумленно воскликнула: «Ах, Господи, какая прелесть!» Райзеру было тогда лет шесть или семь, и интонация терпеливого смирения, с каким эта оборванная девочка, сдерживая восторг, произнесла: «Ах, Господи, какая прелесть!», проникла в самую его душу. Бедной девочке позволялось лишь смотреть, как все эти прелестные вещицы проплывают мимо нее, но она и думать не смела о том, чтобы когда-нибудь ими обладать. Ее словно бы навсегда отлучили от самой возможности наслаждаться подобными изысканными вещами – с какой радостью он бы вернулся и подарил замарашке эту драгоценность, если бы тетка разрешила! Всякий раз, когда он позднее вспоминал об этом случае, его охватывало горькое раскаяние, что он в ту же минуту не отдал девочке свою игрушку. Ту же горечь сострадания испытывал он и теперь, когда ему стало казаться, что он пользуется особой благосклонностью пастора Маркварда, коей были лишены остальные ученики, незаслуженно перед ним умаленные.
И точно такое же чувство пробудилось в его душе впоследствии, при чтении первой Вергилиевой эклоги: «Нет, не завидую я…» Когда он представил себя на месте счастливого пастуха, отдыхающего под сенью дерева, меж тем как другой пастух вынужден покинуть свои дом и поле, то при словах этого последнего: «Нет, не завидую я…» у него возникало то же настроение, что от восклицания той замарашки: «Ах, господи, какая прелесть!»
Здесь я должен несколько углубиться в прошлую жизнь Райзера, после чего отчасти предварить будущее, чтобы связать воедино все, о чем я замыслил рассказать. В дальнейшем я еще не раз прибегну к подобному средству и уже не стану извиняться за эти мнимые отступления перед теми, кто проник в суть моего замысла.
Легко заметить, что тщеславие Антона Райзера, благодаря нескольким сошедшимся обстоятельствам, росло как на дрожжах. Снова потребовалось небольшое унижение, и оно не заставило себя ждать. Райзер отнюдь не без оснований тешил себя мыслью, что среди конфирмантов пастора Маркварда он, несомненно, лучший. В классе он сидел на первом месте, полагая, что никто другой не может на это претендовать. Как вдруг занятия у пастора Маркварда стал посещать молодой человек, прекрасно одетый и прекрасно воспитанный, одного с ним возраста, – и совершенно его затмил благодаря своему изысканному поведению и исключительному вниманию со стороны пастора, который сразу же указал ему на первое место.
Сладкая мечта Райзера быть первым среди учеников внезапно развеялась. Он чувствовал себя униженным и обесславленным, отброшенным в самую гущу класса. Он справился о своем грозном сопернике у пасторского слуги и узнал, что тот – сын амтмана, состоит на пансионе у пастора Маркварда и будет конфирмован одновременно со всеми. Чернейшая зависть поселилась на время в душе Антона; голубой кафтан и бархатный воротник сынка амтмана, его изысканные манеры и красивая прическа – все это его совершенно обескураживало и рождало в нем недовольство самим собой; но одновременно в нем крепло чувство собственной несправедливости, и вот уже он стал недоволен собственным недовольством.
Ах, ему совсем не следовало завидовать бедному юноше, чья звезда в скором времени закатилась. Через две недели пришло известие, что отец молодого человека уволен со службы по причине допущенных злоупотреблений. Оплачивать пансион стало теперь некому, пастор Марквард отправил его обратно к родственникам, и Райзер вновь занял первое место в классе. Он не мог сдержать радость по поводу случившегося, но и корил себя за эту радость, пытаясь усилием воли вызвать в себе сострадание – поскольку считал это справедливым, – и подавить радость, так как считал ее несправедливой; и все же радость в нем брала верх, и под конец он стал утешаться тем, что не может же он противостоять судьбе, которой было угодно сделать того юношу несчастным. Но вот в чем вопрос: если бы судьба юноши вдруг снова переменилась, принял бы тогда Райзер по первому зову души, с легким сердцем и дружелюбным участием его первенство над собой? Или ему пришлось бы насильно возбуждать в себе все эти чувства, поскольку он считал их справедливыми и благородными? Сам ход его дальнейшей жизни вскоре даст ответ на этот вопрос!
Ежевечерне Райзер брал уроки латыни у сына пастора Маркварда и сделал в ней несомненные успехи, так что уже через месяц мог недурно пересказать Корнелия Непота. Какое блаженство он испытывал, когда к ним заходил алтарник и спрашивал, как идут дела у обоих господ студентов! Или в другой раз – когда пастор Марквард выдал свою младшую дочь за молодого проповедника и в одно из воскресений тот вместо пастора вел урок: чем чаще он выслушивал ответы Райзера, тем внимательней к нему приглядывался. И каким восторгом забилось сердце Райзера, когда по окончании службы он пришел домой к пастору Маркварду, где молодой человек обратился к нему с величайшей учтивостью и сказал, что еще в церкви, выслушав первый ответ Райзера, он подумал, не об этом ли юноше тесть рассказывал ему столько хорошего, – теперь он рад, что не ошибся.
Никогда еще Антон не испытывал чувств вроде тех, что были вызваны этим уважительным обращением. А поскольку он не был обучен приемам светского общения, то в подобных случаях прибегал к оборотам книжной речи, почерпнутым из «Телемака», Библии и катехизиса, что зачастую придавало его ответам довольно причудливый и оригинальный характер – так, он мог сказать, что чувствует необоримую страсть к учению и желал бы сделаться во всех отношениях достойным благодеяний, ему оказываемых, и провести всю свою жизнь до последних дней в благочестии и набожности.