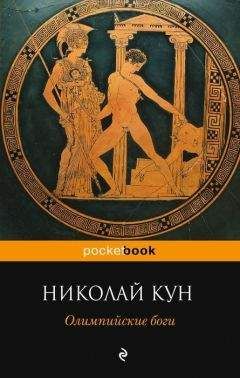Vagabondo - Иосафат Барбаро. Путешествие в Тану
Малипьеро, никогда не отходивший в своих «Анналах» от общего политического фона событий, так определил состояние Венеции в ее длительной и тяжелой войне (1463—1479 гг.) с турками как раз к моменту завершения посольства Барбаро в Персию, т. е. к концу войны: «Венеция уже 13 лет ведет эту жесточайшую войну (questa guerra ardentissima) без всякой помощи от кого бы то ни было, покинутая всеми (abbandonata da tutti); кошельки частных лиц (de' particulari) пусты; состояния их разрушены. Венеция не имеет денег, ни чтобы выплатить “рефузуры” («Ie refusure» — собранные вперед или преждевременно налоги), ни чтобы содержать военный флот (1'armada). Команды военных судов волнуются и подымают крик на причалах (i galioti vien tumultariamente a cridar a le scale). Нет средств содержать 40 вооруженных галей, но и это, столь значительное их число не достаточно для того, чтобы сопротивляться громадным силам противника».[269] [82]
Тяжесть положения усугублялась серьезностью дел на Крите: «Город Кандия в величайшем страхе перед турками: он не имеет крепости, куда можно было бы скрыться. Безоружные крестьяне пытаются бежать в горы..., а горожане (i borghisani) уже восставали против (критского) правительства (ha tumultuado davanti'l rezimento»).[270] To же самое происходило на острове Корфу.
Таково было состояние Венеции, принужденной отказаться от былых смелых проектов покорения турок. В это время Барбаро, который не смог ничего сделать для своей родины в смысле помощи с востока (к тому времени не осуществились также и планы движения татар хана Ахмеда на Фракию),[271] возвращался домой. Находясь еще в Тебризе, он присутствовал при смерти Узун Хасана (6 января 1478 г.); следовательно, сама собой закончилась его дипломатическая деятельность в Персии. К тому же в стране поднялась настоящая смута по поводу наследования престола.[272] Подобно тому, как за четыре года до того Барбаро вступил в эту страну ограбленный и полуодетый после схватки с курдами, так и теперь, уходя из этой страны, он надел бедную одежду (drappi poveri e miserabili) и в сопровождении единственного оставшегося у него слуги-славянина (uno garzon schiavone)[273] присоединился к какому-то армянину, направлявшемуся в Эрзинджан (Assengan). Путь в Венецию был долгим (около года) и трудным, с риском потери не только скудных средств, но и жизни. Барбаро медленно двигался через Эрзинджан, Чемиш-гизек, Арапкир, Малатью, Алеппо, Бейрут. Перебравшись на Кипр, он оттуда морем достиг родного города. Его рассказ об обратном пути интересен яркими подробностями, описаниями небезопасных порой приключений (встречи со сборщиком пошлин в Малатье, с мамлюками в Триполи); кажется, что, приближаясь к концу записей, автор перестал скупиться на воспоминания о красочных эпизодах своих странствий (le cose appertinenti al camino).[274]
Барбаро было 66 лет, когда он вернулся в Венецию из Персии. Однако через три года он опять на государственной службе. В ноябре 1482 г. он взял на себя управление (intravit regimen) областью Полeзине с ее главным городом Ровиго, стал «capitaneus Rodigii et provisor generalis totius Policinii et aliorum locorum citra Padum».[275] В результате войны с Феррарой область Полeзине очень пострадала; Барбаро принял меры к облегчению и даже полному снятию налогов и долгов с населения, организовал ремонт крепостных стен, навел порядок в административных [83] делах. В феврале 1485 г. он закончил восстановление Полeзине; совет коммуны Ровиго вынес ему благодарность за его полезную деятельность.[276]
Под конец жизни Барбаро был удостоен еще двух высоких должностей в правительстве, причем таких, которые отнюдь не являлись только почетными. Он вошел в одну из групп «savi» или «sapientes», а именно — стал «savio del Consiglio»; через его руки проходили важнейшие дела, подготовлявшиеся для рассмотрения их сенатом (Consiglio dei pregadi).[277] Кроме того, он был советником дожа Агостино Барбариго. Таким образом, до самого преклонного возраста Барбаро не оставался вне политической жизни Венеции.
К исходу 80-х годов XV в. Барбаро принялся за работу над своими двумя «Путешествиями» — в Тану и в Персию. Как было сказано выше, он писал свой труд во время правления дожа Агостино Барбариго,[278] точнее же — в краткий срок между 1488/89 и 1492 г.
Нельзя не высказать здесь одного — вполне вероятного — предположения о том, почему Барбаро, даже освободившись (в ноябре 1482 г.) от служебного поста в Полeзине, неохотно и лишь под давлением, по-видимому со стороны дожа, принялся писать о своих путешествиях. 7 марта 1479 г., когда он вернулся на родину после шестилетнего пребывания на Востоке, он либо уже знал, либо сразу же узнал в Венеции об окончании войны с турками и о заключенном 25 января 1479 г. в Стамбуле мирном договоре между Венецией и Мухаммедом II.[279] Старый, опытный политик, он, конечно, еще до смерти Узун Хасана понял, что Персия не выступит против турок и что в этом отношении его дипломатическая деятельность не принесла никаких плодов; но это была неудача только с одной стороны. Теперь же, вместе со своим городом, он ощутил полный и окончательный провал всех усилий в трудной 13-летней войне, завершившейся тяжелым для его родины договором. Венеция потеряла не только Негропонт, но и все наиболее ценные владения в Морее. Венецианцы отдали туркам город Скутари — свою главную опору на далматинском побережье, а вместе со Скутари и неприступную когда-то крепость Кройю. Оба эти места в 60—70-х годах Барбаро защищал вместе с албанцами Скандербега, а теперь остатки населения покидали их стены, на которых размещались турецкие солдаты. Хотя и сохранив ряд купеческих станций на Леванте и торговые [84] привилегии даже в Константинополе, Венеция должна была уплатить туркам крупные суммы золотых дукатов — 100 тысяч в течение двух лет и в дальнейшем по 10 тысяч ежегодно за право свободного ввоза и вывоза товаров в турецкие города и порты.[280]
Вскоре после приезда Барбаро прибыл из Стамбула в Венецию Джованни Дарио, ее представитель, заключавший договор с турками, и представитель султана к дожу.[281] Толпы народа смотрели на этого посла, который держал себя надменно и вызывающе. Дож Джованни Мочениго должен был принять из его рук унизительный подарок — пояс султана — и передать ему ратифицированный договор. Всему этому был свидетелем Барбаро, только что вернувшийся в Венецию и сразу попавший в атмосферу общей подавленности и оскорбленной национальной гордости. Возможно, что сознание политического упадка родного города — и неудачи своего служения ему — мешало Барбаро заняться описанием тех мест, где он побывал в надежде на успехи Венеции, но в такие годы, когда эта надежда оказалась неосуществимой, успехи, столь нередкие в жизни Венеции, на этот раз не достались ей.
В венецианском Государственном архиве хранится завещание Иосафата Барбаро от 6 декабря 1492 г. с двумя добавлениями (кодициллами) от 8 и 18 августа 1493 г.[282] Согласно общепринятой форме подобного акта, в начале его сообщается, что завещатель принадлежит к приходу (или к «конфинию»)[283] св. Марии Формозы, что он поручил нотарию Франческо Малипеде записать свои последние распоряжения, что он назначил душеприказчиками («комиссариями») свою жену Ченоне, своих зятьев сер Надаля и сер Марко Дзульяна, своего сына Дзуана Антонио.
Завещатель желал быть похороненным в монастыре св. Франческо делла Винья, что и было исполнено; плиту с могилы уничтожили, по-видимому, при Наполеоне, когда монастырь стал казармой. Сохранилась копия латинской надгробной надписи: «Sepultura M(agnifici) D(omini) Iosaphat Barbaro, de confinio sante Marie Formoxe, et eius heredum. 1494».[284]
Кроме жены и сына в завещании названы еще три дочери Барбаро — Магдалуца, Франческина-монахиня и Клара — «fia [85] natural». Как обычно, завещатель приказывал раздать некоторое количество дукатов церквам и монастырям для совершения заупокойных месс, религиозным учреждениям (госпиталю, странноприимному дому и т. п.) и отдельным лицам; среди последних— все дочери и три служанки, которым оставлялись небольшие деньги «за хорошую службу» (per suo bon servir); отдельно упоминался слуга Мартин Сарацын.[285] Основное имущество, как движимое, так и недвижимое (beni mobeli e stabeli), отказывалось сыну, при котором, «не терпя нужды» и «имея пропитание и одежду» (victo e vestito), должны были проживать мать и сестра Магдалуца. Ни о невестке, ни о ее дочери Лукреции (внучке Иосафата Барбаро) нет речи — ввиду наследства, оставляемого сыну, отцу Лукреции.
Через несколько месяцев (к августу 1493 г.) возникли, очевидно, какие-то новые обстоятельства, и Барбаро велел приписать к завещанию особое добавление, в котором говорилось об увеличении некоторых из указанных раньше сумм. Быть может, на завещателя повлияла его дочь Магдалуца, потому что, если наследство кое-кого из одаряемых возросло с 5 до 10 дукатов, ее доля разрослась в 40 раз, достигнув двух тысяч дукатов (на случай, если она выйдет замуж; тысяча дукатов давалась ей, если замужества не будет). Обращает внимание добавка при имени Мартина Сарацына, названного здесь рабом: кроме денег в размере 10 дукатов, он должен был получить свободу.[286] Но спустя всего десять дней Барбаро резко объявил недействительными (nullius valoris, roboris et momenti) изменения, внесенные им в основное завещание: будто человек, не привыкший склонять свою волю в угоду чужому влиянию, поспешно изменил результат временно охватившей его слабости. Был ли он в этом справедлив — осталось неизвестным. Однако решение завещателя относительно освобождения раба Мартина Сарацына осталось неизменным.[287]