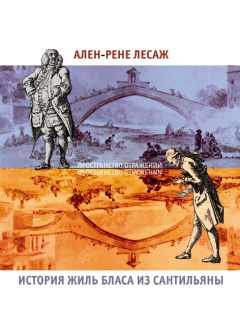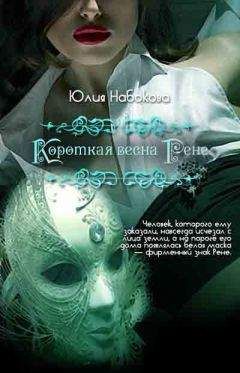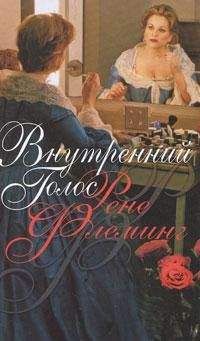Алан-Рене Лесаж - Похождения Жиль Бласа из Сантильяны
Моему тщеславию не хватало только одного, а именно, чтоб Фабрисио стал свидетелем той роскошной жизни, которую я вел. По моим расчетам, он должен был уже вернуться из Андалузии, а потому, желая насладиться его удивлением, я послал ему записку без подписи, в которой сообщалось, что один сицилийский сеньор из числа его приятелей просит его к себе. В записке указывались день, час и место, куда ему надлежало пойти. Свидание было назначено у меня. Нуньес явился и был крайне изумлен, узнав, что я тот таинственный вельможа, который пригласил его к вечернему столу.
— Да, друг мой, — сказал я, — ты видишь перед собой хозяина этого дома. Я обзавелся каретой, хорошим поваром и, кроме того, денежным сундуком.
— Возможно ли, что мне довелось встретить тебя среди такой роскоши? — воскликнул он с живостью. — Как я рад, что поместил тебя к графу Галиано. Ведь я говорил тебе, что он щедрый вельможа и не преминет позаботиться о твоем благополучии. Вероятно, — добавил он, — ты последовал моему мудрому совету и немного отпустил дворецкому поводья. Поздравляю тебя. Только благодаря такой разумной тактике управители богатых домов и набивают себе карманы.
Я предоставил Фабрисио вдосталь восторгаться тем, что он определил меня к графу Галиано. Затем, чтоб умерить его радость по поводу того, что он доставил мне столь изрядное место, я сообщил ему, как отблагодарил меня этот сеньор за мое усердие. Но, приметя, что, во время этого рассказа мой поэт внутренне бил отбой, я сказал ему:
— Охотно прощаю сицилийцу его неблагодарность. Между нами будь сказано, мне следует скорее радоваться, нежели негодовать. Если бы граф не поступил со мной так дурно, я последовал бы за ним в Сицилию, где служил бы ему и по сие время в ожидании весьма сомнительных благодеяний. Словом, я не был бы теперь наперсником герцога Лермы. Нуньес был до того поражен моими последними словами, что несколько мгновений не мог проронить ни звука. Наконец, прервав молчание, он сказал:
— Не ослышался ли я? Правда ли, что вы пользуетесь доверием первого министра?
— Я разделяю его с доном Родриго Кальдероном и, судя по всем данным, пойду далеко, — отвечал я.
— Поистине, сеньор де Сантильяна, я восхищаюсь вами, — заявил Фабрисио.
— Вы в состоянии справиться с любой должностью. Сколько талантов вы соединяете в себе! Словом, говоря языком наших притонов, вы обладаете «универсальной отмычкой», т. е. являетесь мастером на все руки. Во всяком случае, сеньор, — добавил он, — я радуюсь благополучию вашей милости.
— Вот что, господин Нуньес, — прервал я его, — к черту все титулования и величания! Бросим эти церемонии и давай жить по-прежнему на дружеской ноге.
— Ты прав, — возразил он. — Хотя ты и разбогател, но я не должен смотреть на тебя другими глазами. Признаюсь тебе, впрочем, в своей слабости, — добавил он. — Поведав мне о своей блестящей судьбе, ты меня просто ослепил; к счастью, это ослепление теперь проходит, и я снова вижу в тебе только своего друга Жиль Бласа.
Наш разговор был прерван приходом четырех или пяти чиновников.
— Господа, — сказал я им, указывая на Нуньеса, — вы будете иметь удовольствие ужинать с сеньором доном Фабрисио, который сочиняет стихи, достойные царя Нумы,164 и пишет прозой так, как не пишет никто.
К несчастью, я обращался к людям, которые так мало ценили поэзию, что мой поэт даже побледнел. Они еле удостоили его взгляда. Тщетно пытался он привлечь их внимание своим острословием; они не понимали соли. Это так его задело, что он позволил себе поэтическую вольность, а именно бросил всю компанию и испарился. Чиновники не заметили его исчезновения и сели за стол, даже не осведомившись о том, что с ним сталось.
Когда я на следующее утро кончил свой туалет и собрался уже уходить, вошел ко мне в спальню астурийский поэт и сказал:
— Прости меня, любезный друг, что я вчера повернулся спиной к твоим чиновникам, но скажу тебе откровенно: мне было в их обществе до того не по себе, что я не вытерпел. Черт знает, что за скучные люди, и к тому же самонадеянные и надутые. Не понимаю, как ты с твоим живым умом можешь довольствоваться такими тяжелыми сотрапезниками. Сегодня же приведу к тебе более удобоваримых.
— Ты меня одолжишь, — отвечал я. — Полагаюсь в этом отношении на твой вкус.
— И не раскаешься, — возразил Фабрисио. — Обещаю тебе людей выдающихся и на редкость интересных. Тотчас же отправлюсь к одному лимонадчику, у которого они вскоре соберутся. Я сговорюсь с ними с утра, а не то как бы они не обещали пойти в какое-нибудь другое место; это такие занимательные люди, что их перехватывают из рук в руки кто на обед, кто на ужин.
С этими словами он покинул меня и вернулся вечером к ужину в сопровождении не более не менее, как шести сочинителей, которых представил мне одного за другим, осыпая каждого безмерными похвалами. Его послушать, эти остромыслы превосходили своих греческих и римских собратьев, а их произведения следовало, по его словам, напечатать золотыми литерами. Я принял этих господ весьма учтиво и даже наговорил им комплиментов, ибо сочинители — народ довольно пустой и тщеславный. Хотя я и не давал Сипиону никаких приказаний, чтобы за этим ужином царило особенное изобилие, однако он сам позаботился увеличить число блюд, так как знал, какого сорта людей я должен был в этот день потчевать.
Наконец, мы очень весело уселись за стол. Мои поэты принялись говорить о самих себе и хвастаться. Один с гордым видом перечислял вельмож и знатных дам, наслаждавшихся его музой. Другой, порицая одну академию изящной словесности за выборы двух новых членов, скромно заявил, что ей следовало бы избрать именно его. Речи прочих отличались не меньшей самонадеянностью. В середине ужина они принялись засыпать меня стихами и прозой, и каждый по очереди демонстрировал образчики своего творчества. Один угостил нас сонетом, другой продекламировал сцену из трагедии, третий прочел критику на комедию. Четвертый собрался было познакомить нас с одой Анакреона, переведенной им дрянными испанскими стихами, но один из его собратьев прервал его, указав на какое-то неудачное выражение. Автор перевода с этим не согласился, отчего возник спор, в котором приняли участие все остромыслы. Мнения разделились; спорщики пришли в раж, и дело дошло до брани. Это было бы полбеды, но эти бесноватые вскочили из-за стола и принялись тузить друг друга кулаками. Мне, Фабрисио, Сипиону, кучеру и лакеям стоило немалых трудов их разнять. Не успели мы их растащить, как они ушли из моего дома, точно из кабака, не подумав даже извиниться передо мной за свое непристойное поведение.
Нуньес, обнадеживший меня приятным ужином, был крайне смущен этим происшествием.
— Ну-с, уважаемый, не собираетесь ли вы и сейчас расхваливать своих друзей? — сказал я. — Клянусь честью, вы привели мне гнуснейших людишек. Я остаюсь при своих чиновниках. Не упоминайте мне больше о сочинителях.
— Я и не намерен представлять тебе других: это еще самые рассудительные из всех, — отвечал Фабрисио.
ГЛАВА X
Как скоро узнали, что я пользуюсь расположением герцога Лермы, у меня образовался собственный двор. Каждый день моя передняя была полна народу, и я с утра давал аудиенции. Ко мне приходили двоякого рода люди: одни для того, чтоб я за деньги выпросил им милости у герцога, другие для того, чтоб склонить меня мольбами к безвозмездному выполнению их просьб. Первые могли быть уверены, что я их выслушаю и постараюсь им услужить, от вторых же я сразу отделывался отказом или канителил их так долго, что они теряли терпение. Прежде чем попасть ко двору, я был от природы сострадателен и милосерден, но там человеческие слабости испаряются, и я стал черствее камня. Исцелился я также от сентиментальности по отношению к друзьям и перестал испытывать к ним привязанность. Об этом свидетельствует мой поступок с Хосе Наварро в связи с одним делом, о котором я сейчас расскажу.
Этот Наварро, которому я был столь многим обязан и который, кстати сказать, был первой причиной моего благополучия, зашел однажды ко мне. Выразив мне свои дружеские чувства, что он обычно делал при каждой нашей встрече, Наварро попросил меня выхлопотать у герцога Лермы какую-то должность для своего приятеля, который был, по его словам, весьма любезным и достойным кавалером, но за неимением средств к существованию нуждался в службе.
— Зная вашу доброту и услужливость, — добавил он, — я не сомневаюсь, что вы будете рады посодействовать честному, но небогатому человеку; его стесненные обстоятельства послужат поводом к тому, чтобы вы его поддержали, я уверен, что заслужу ваше расположение, доставив вам возможность проявить свою склонность к благодеяниям.