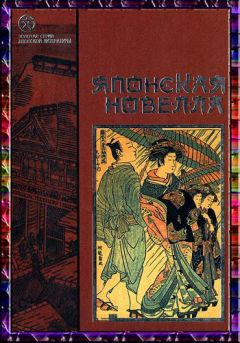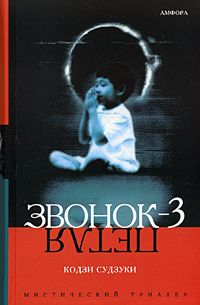Сёсан Судзуки - Японская новелла
С уст матери готово было сорваться какое-то слово, но, не в силах произнести его, она лишь беззвучно пошевелила губами. В глазах Такэру, устремленных на мать, сверкнул огонь.
Мать еще сильнее задрожала.
— Сигэру, прости нас!
— Матушка! И вы — тоже?..
Сигэру уронил голову на грудь. Прошло несколько секунд.
— Надо было умереть на Эйгатакэ! — прошептал Сигэру.
Он вскочил на ноги. Никто не успел опомниться, как он схватил из токонома короткий меч и спрыгнул на пол.
— Прощайте!
Блеснуло лезвие, Сигэру вспорол себе живот, и алая кровь струей хлестнула по стенкам бумажного фонаря.
3“Вернулся Сигэру-сан из дома Уэда! Вернулся Сигэру-данна3 из Усадьбы!” — бурлила деревня. Потом на смену этим толкам пришли другие: “Сигэру сделал себе харакири!”, “Да нет, его закололи”. Были и такие умники, которые уверяли: “Пустое! Просто распустили слухи о самоубийстве, а сами укрыли его где-то подальше”. Но вскоре, когда Сигэру тайно похоронили, слухи умолкли. И даже вечно недовольные, что бурчали в других деревнях: “Богатым всегда везет! Сын участвовал в мятеже, вернулся домой, а жандармы делают вид, что им ничего неизвестно”, — даже эти теперь зашептали: “Богачи — злодеи! Воротился сын, а они и спрятать его не сумели. Заставили сделать харакири, лишь бы от себя отвести беду. Нет, уж лучше родиться в доме нищего, чем в доме богача...” Неистребимая ненависть односельчан как туман окутала Усадьбу.
Явственно ощущавший эту ненависть, Такэру уговорил отца уехать вместе с ним на горячие источники. В доме остались лишь мать, Сатору да слуги. Как-то само собой получилось, что деревенские стали обходить Усадьбу стороной. Хозяйка с утра до вечера сидела взаперти, не выходя из задних покоев. Сатору каждый день отправлялся на рыбную ловлю. В доме некому было громко слово вымолвить. Здесь словно сгустилась вся печаль осени, той, о которой говорится: “Чем больше дом, тем печальнее в нем осенний вечер”.
Утром восемнадцатого октября небо на востоке ярко пылало. Стояла необычная для этого времени года духота. Днем все замерло, ни один листок на деревьях не шевелился. “Неспроста такая тишь”, — с тревогой думали люди в деревне.
Но вот перевалило за полдень. Около трех в небе внезапно послышался такой шум, словно взлетели одновременно сотни и тысячи орлов. Казалось, снопы рисовой соломы, сложенные у ворот, тронулись с места и с шуршанием понеслись по земле. В мгновение ока налетел ураган.
Он не утих и к ночи, напротив, набрал еще большую силу. Слуги в Усадьбе собрались на кухне, зажгли множество лучин. Разговоры, которые здесь вели, были полны страха и смятения.
— Ух, как задувает! Как задувает! О-Цуги-сан, выгляни-ка наружу. Тьма кромешная! Ну и страшный же вечер!
Женщина, чистившая хурму у очага, дрожа, ответила работнику, скоблившему котел:
— Было и пострашнее: когда я давеча понесла фонарь в покои, хозяйка поднимает ко мне лицо — бледное-бледное — и говорит: “О-Цуги, не побудешь ли со мной немного?” Подумайте только! Меня всю как жаром обдало, говорю ей: “Хорошо. Вот управлюсь и сразу приду!”, да скорее бежать! О-Тики-сан, сходи-ка ты!
— Ой, не хочу! Ни старого господина, ни молодого нет, в доме пусто... Сатору хоть и здесь, да, верно, в такую погоду храпит вовсю... Вот ведь Такэру — родной брат Сигэ... О, милосердный Амида-будда!” Как раз неделя миновала.
— Жаль беднягу... Милосердный Амида-будда!..
— Сигэру-данна жалко... А разве не жаль и О-Кику-сан? — вмешался в разговор старик, возившийся с соломой.
— Как не жаль! Да вот, кажется, Дзимбээ говорил вчера: услышала она об этом и в уме повредилась. А позавчера — еще немного, и перерезала бы себе горло. Теперь, говорят, мать караулит ее и днем и ночью.
— Да уж верно так, верно так... Еле вырвался живым — и сразу такое! Есть отчего потерять разум. А Такэру-данна... Что это, ветер как будто унялся?.. Нет, снова завыл!
* * *Все в природе замерло, точно затаило дыхание. Но вот опять налетел порыв урагана, бросился на дом Захлопали двери и сёдзи, о ставни застучало — то ли гравий с дорожек, то ли листья с деревьев; зазвенела, слетая с крыши, черепица, и все это слилось со стоном старого камфарного дерева, ветки которого, словно в предсмертной агонии, бились на ветру. Невольно думалось: уж не наступил ли конец света?
В дальней комнате, где хозяйка О-Ёси сидела одна, занятая шитьем, ветер, пробивавшийся сквозь ставни, колебал в фонаре язычок огня, и тот, треща, замирал, готовый вот-вот погаснуть, а потом снова ярко разгорался. Хозяйка вдруг перестала шить и прислушалась. Встав с места, она поправила фитиль, раздвинула фусума36 и оглядела соседнее помещение, затем поспешно задвинула фусума и, вернувшись на место, снова взяла в руки шитье.
Прошло минут пять.
— Цуги! Цуги! Сатору! Есть кто-нибудь?
Она звала напрасно — отклика не было. Никто не пришел, слышно было лишь, как стучат сёдзи.
— Что это может быть?.. О-о, какой ужасный ветер!.. Ой, кто это там, за фусума? Это ты, Цуги?
Дрожа как в лихорадке, она встала со складной меркой в руке, еще раз раздвинула фусума, но тут же опять задвинула. Снова поправив фитиль, она собралась сесть на свое место, но вдруг уставилась на фонарь и, приблизившись, стала пристально разглядывать его, тереть кончиками пальцев.
— А-а, это пятно от масла? Да, да... Но ведь фонарь оклеили заново, пятно не должно было остаться... Отчего такой тусклый свет?
В третий раз она встала и поправила фитиль.
— О-о, какой ветер! Кто это там, возле сёдзи? Ах, это же моя тень, ха-ха-ха... Ой, кто это? Кто сейчас смеялся? Цуги! Цуги! Сатору! Придите же кто-нибудь! Скорей, скорей! Придите кто-нибудь!..
Ей казалось, что она кричит громко, но ее губы лишь беззвучно шевелились. Никто и не думал приходить ей на помощь. Охваченная ужасом, металась она, то вставая, то снова садясь.
— Ой, там за фонарем кто-то стоит! Это ты, Цуги? Или Сатору? О-о, это Сигэру! Сигэру, Сигэру, прости! Прости меня!
Порывисто вскочив, она заметалась, пытаясь убежать, спастись.
— Виновата! Я виновата! Сигэру, прости! Не смотри так... О-о, как страшно!.. Что? Ты говоришь: “Матушка, и вы тоже?” Верно, я виновата! Мать виновата! Во всем виновата! Ах, отчего так темно? Сигэру преследует меня, спасите!
С криками кружилась она по комнате. Подолом кимоно случайно задела фонарь, и он упал. Взвился огонь, пламя вмиг охватило сёдзи. Багровые языки лизнули белую бумагу, мгновенно растеклись, извиваясь, и комната озарилась ярким светом.
Растерянно смотревшая мать внезапно захлопала в ладоши.
— Ха-ха-ха! Как светло! Сигэру, теперь ты меня прощаешь? Как, все еще говоришь: “Матушка, и вы тоже?” Ну, будет, прости! Стань прежним Сигэру, которого мама вскормила своей грудью! Ха-ха-ха... светло! Светло!.. Послушай, Сигэру, устроим ночь огня37, а? Ночь огня!..
Она хватала все, что попадалось под руку — шитье, бумагу, нитки, — и бросала в огонь, хватала, бросала и, хлопая в ладоши, радостно смеялась. Но тут налетел новый порыв урагана, сотрясший весь дом, он распахнул ставни, забушевал в комнате. Разлетелся пепел, взметнулось пламя, и сёдзи, потолок, татами38, фусума — все мгновенно запылало.
* * *Как раз в это время к Усадьбе направлялся всадник. Стук копыт его лошади заглушал даже шум ветра.
Такэру, находившемуся с отцом на горячих источниках, стало известно, что дома его ждут неотложные дела, и в один из дней после полудня он пустился верхом в обратный путь. Однако ураган мешал ему двигаться быстро, и когда он был уже всего в полутора ри от своей деревни, солнце село. Ураган набирал силу. Всадник не мог даже зажечь фонарь, но знавшая дорогу лошадь уверенно бежала в темноте. Всадник торопил ее и, невзирая на ветер, все продвигался вперед... вперед... Внезапно взглянув на небо, он увидел, что вершина горы Хатияма, обычно белевшая и по ночам, слегка окрасилась в желтый цвет.
— Э-э, что такое? Что это там, на Хатияма? Из придорожного шалаша вынырнула темная тень, и старческий голос проговорил:
— А ведь и верно... Не пожар ли? Глаза стали слабые... — остальные слова унес ветер.
— Кажется, это пожар! — пробормотал Такэру.
Не отводя глаз от светящейся вершины, он проехал еще пять-шесть тё. Дрожащий отсвет слабо золотился, готовый, казалось, вот-вот исчезнуть, но вдруг сделался ярким, словно в него плеснули киновари.
— Пожар! Пожар!
— Какой идиот допустил, чтобы начался пожар? Головотяпство неслыханное — при таком-то ветре!..
Беспрерывно ругаясь, Такэру проехал еще полри и, обогнув подножие Хатияма, достиг деревни Аомура. Зарево было уже явственно видно.
На середине дороги деревенские жители — четверо или пятеро, — сгибаясь под неистовыми порывами ветра, смотрели на зарево.