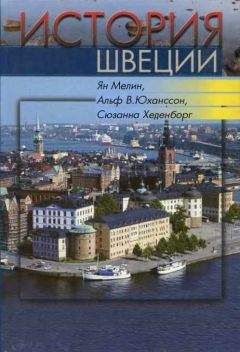Аль-Мухальхиль - Арабская поэзия средних веков
Тарафа
{21}
* * *В песчаной долине следы пепелищ уцелели
И кажутся издали татуировкой на теле.
С верблюдов сойдя, мне сказали собратья мои:
«Что зря горевать? Докажи свою стойкость на деле!»
Я вспомнил о племени малик, ушедшем в простор,
В степи паланкины, как в море ветрила, белели.
Казалось: Ибн Ямин{22} плывет на своем корабле,
То движется прямо, то скалы обходит и мели.
Корабль рассекает волну. Так, играя в «фияль»{23},
Рукой рассекают песок, чтоб добраться до цели.
Краса черноокая в стойбище дальнем живет,
На шее высокой горят жемчуга ожерелий,
Косится испуганно дева, как в поле газель,
И шея изогнута трепетно, как у газели.
Когда улыбается девушка, зубы блестят,
Как будто мы лилию среди барханов узрели.
Горят позолотою зубы в полдневных лучах,
А десны красавицы, как от сурьмы, потемнели.
Лицо ее светится. Кажется: солнце само
Покров ей соткало из яркой своей канители.
Терзаемый думой, седлаю верблюдицу я,
Она быстронога, без отдыха мчится недели,
Крепка, как помост, по дорогам бежит, где следы
Сплетают узор, — словно ткань на дорогу надели.
Верблюдица скачет, и задние ноги ее
Передних касаются, следом бегут, словно тени.
Со стадом верблюжьим пасется она на плато,
Жует молодые побеги зеленых растений.
Округлые бедра верблюдицы — словно врата
Дворца, а высокий хребет — как стена укреплений.
Под грудью ее, как под пальмой, прохладная тень,
Излучина брюха — как свод, и массивны колени.
Она расставляет передние ноги свои,
Как держит бадьи водонос — для свободы движений.
С румийскою каменной аркою{24} схожа она,
Подобные арки не рушатся от сотрясений.
Поводья бегут по груди, не оставив следа,
Так воды с утесов текут вдоль гигантских ступеней:
Подобно разрезу на вороте с белым шитьем,
Расходятся, сходятся снова, сливаются в пене.
Верблюдица голову держит, как нос корабля,
Сама словно судно, плывущее против теченья.
Большая ее голова наковальне под стать,
В зазубринах вся, как пила, и в узлах, как коренья.
А морда ее, как сирийский папирус, гладка,
А губы сафьяна нежнее, но крепче шагрени.
Глаза, как зерцала, сияют из темных глазниц,
Так блещет вода среди скал в черноте углублений.
Прозрачны они и чисты, обведенные тьмой,
Как очи пугливых газелей и чутких оленей.
Подвижные уши способны во тьме уловить
Тревожные шорохи, зовы и шепот молений.
Могучее сердце верблюдицы гулко стучит,
Как будто в гранитный утес ударяют каменья.
Верблюдица мчит, запрокинув затылок к седлу,
Стремительный бег быстроногой похож на паренье.
Захочешь — пускается вскачь, а захочешь — бредет,
Страшится бича, не выходит из повиновенья,
Склоненною мордой почти прикасаясь к земле,
Бежит все быстрей и быстрое, исполнена рвенья.
Спокойно ее понукаю, когда говорят:
«Из этой пустыни не вызволит нас провиденье»,—
И даже тогда, когда спутники, духом упав,
Не ждут ничего, лишь до смерти считают мгновенья.
Вам скажут: «Один удалец этот ад одолел»,—
Смельчак этот — я, обо мне говорят, без сомненья.
Хлестнул я верблюдицу, и поскакала она
В тревожный простор, где восход полыхал, как поленья.
Ступает она, как служанка на шумном пиру,
Качается плавно в объятиях неги и лени.
По первому зову на помощь я вмиг прихожу,
Не прячусь в канаву, завидев гостей в отдаленье.
Кто ищет меня — на совете старейшин найдет,
Кто хочет найти — и в питейном найдет заведенье.
Придешь поутру — поднесу тебе чашу вина,
Не хочешь — не пей, но войди, окажи уваженье.
На шумных собраньях средь самых почтенных сижу,
Мне старцы внимают, когда принимают решенья.
Пирую с друзьями, выходит прислуживать нам
Рабыня, чей лик светозарный — услада для зренья.
На девушке яркое платье. Так вырез глубок,
Что белое тело доступно для прикосновенья.
Ей скажете: «Спой!» — и потупит красавица взор,
И тотчас услышите нежное, тихое пенье.
Люблю пировать, веселиться, проматывать все,
Что взял я в наследство, что сам я добыл во владенье.
Родня сторонится меня, как верблюда в парше,
Которого дегтем намазали для исцеленья.
А я ведь друзей нахожу и в убогих шатрах,
И там, где в богатстве живет не одно поколенье.
Меня вы хулите за то, что рискую в бою,
За то, что могу на пирушках гулять что ни день я.
Но разве вы в силах мне вечную жизнь даровать?
Позвольте же с гибелью встретиться в час наслажденья
Позвольте же мне три деянья всегда совершать,
Которые в жизни имеют большое значенье.
Клянусь! Я и думать не стал бы, когда б не они,
О том, что наступит черед моего погребенья!
Деяние первое: не дожидаясь хулы,
Сосуд осушать, пить вино, не боясь опьяненья!
Второе деянье: на помощь тому, кто зовет,
Бросаться, как зверь потревоженный, без промедленья!
А третье: с веселой красавицей дни коротать,
Укрывшись от долгих дождей под надежною сенью!
О, девичьи руки, подобные стройным ветвям!
Браслеты на них и цепочек звенящие звенья.
При жизни ты должен все радости плоти вкусить,
Превратности я испытал и страшусь повторенья.
При жизни будь щедр! Пропивай все, что есть у тебя!
За гробом узнаешь, как пьется в державе забвенья.
Попробуй могилы скупцов отличить от могил
Безумцев, транжиривших золото без сожаленья!
Два холмика рядом, две гладких гранитных плиты,
Под ними тела, но уже их разрушило тленье.
Да, смерть неразборчива, щедрых берет и скупых,—
Но хуже скупцам: как оставишь добро да именье!
Сокровище жизни бесценно, но тает оно,
Уходят и годы, и дни, и часы, и мгновенья.
Чтоб конь мог пастись, удлиняют веревку ему,
Но жизнь не продлить. Все мы станем для смерти мишенью.
В опасности племя мое — я готов умереть,
Враги угрожают — иду без боязни в сраженье.
К источнику смерти дорогу могу указать
Тому, кто подвергнет собратьев моих поношенью.
Я славен отвагой, стремителен, как голова
Проворной змеи, увенчавшая гибкую шею.
Со мною всегда мой индийский отточенный меч,
Я клятву давал — и теперь с ним расстаться не смею.
Крепка его сталь — ни царапин на ней, ни щербин,
Единым ударом я голову недругу сбрею,
Мечу говоришь: «Погоди!» — но уже он сверкнул,
Сразит он мгновенно — и сам я мигнуть не успею.
Покуда сжимаю в деснице его рукоять,
Любому врагу дам отпор и любому злодею.
Когда прохожу я с мечом обнаженным в руке,
Верблюды в тревоге, дрожат — как бы их не задели.
Дочь Мабада{25}, друг мой, поплачь, если сгину в бою,
Как должно оплакивать павших в далеком пределе.
Одежды свои разорви! Я достоин того.
Другим далеко до меня в ратном яростном деле.
Иные медлительны в добрых делах, но не в злых,
Робеют пред сильными, а на пиру — пустомели.
Но я не таков, никому не спускаю обид,
Будь я послабей, на меня бы с презреньем глядели,
Меня б затравили всей стаей и по одному,
Но щит мой — отвага, воспитанная с колыбели.
Клянусь! О невзгодах своих я не думаю днем,
А ночью тем более — сплю как убитый в постели.
Не раз я, встречая опасность, свой страх отгонял
В то время, как сабли сверкали и стрелы свистели,
Когда даже самые смелые из удальцов
Теряли от ужаса речь, леденели, бледнели.
Я в степь ухожу на верблюде породистом,
На быстром, поджаром, широком в груди.
За мной мое племя отважное движется,
Идет мой верблюд, как вожак, впереди.
Народ мой деяньями добрыми славится,
Коварства и зла от него и не жди.
Он прям, но учтив и чуждается грубости,
И если ты честен, будь гостем, приди.
Стада бережем мы в годину голодную:
Все сыты, и вскоре — беда позади.
Последним поделится племя суровое,
Где юноши — воины, старцы — вожди.
Амр ибн Кульсум