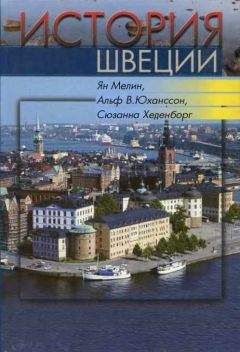Аль-Мухальхиль - Арабская поэзия средних веков
{16}
Друзья, мимо дома прекрасной Умм Джундаб пройдем,
Молю — утолите страдание в сердце моем.
Ну, сделайте милость, немного меня обождите,
И час проведу я с прекрасной Умм Джундаб вдвоем.
Вы знаете сами, не надобно ей благовоний,
К жилью приближаясь, ее аромат узнаем.
Она всех красавиц затмила и ласкова нравом…
Вы знаете сами, к чему толковать вам о нем?
Когда же увижу ее? Если б знать мне в разлуке
О том, что верна, что о суженом помнит своем!
Быть может, Умм Джундаб наслушалась вздорных наветов
И нашу любовь мы уже никогда не вернем?
Испытано мною, что значит с ней год не встречаться:
Расстанься на месяц — и то пожалеешь потом.
Она мне сказала: «Ну чем ты еще недоволен?
Ведь я, не переча, тебе потакаю во всем».
Себе говорю я: ты видишь цепочку верблюдов,
Идущих меж скалами йеменским горным путем?
Сидят в паланкинах красавицы в алых одеждах,
Их плечи прикрыты зеленым, как пальма, плащом.
Ты видишь те два каравана в долине близ Мекки?
Другому отсюда их не различить нипочем.
К оазису первый свернул, а второй устремился
К нагорию Кабкаб, а дальше уже окоем.
Из глаз моих слезы текут, так вода из колодца
По желобу льется, по камню струится ручьем.
А ведь предо мной никогда не бахвалился слабый,
Не мог побежденный ко мне прикоснуться мечом.
Влюбленному весть принесет о далекой любимой
Лишь странник бывалый, кочующий ночью и днем
На белой верблюдице, схожей и цветом, и нравом,
И резвостью ног с молодым белошерстым ослом,
Пустынником диким, который вопит на рассвете,
Совсем как певец, голосящий вовсю под хмельком.
Она, словно вольный осел, в глухомани пасется,
Потом к водопою бежит без тропы напролом
Туда, где долина цветет, где высоки деревья,
Где скот не пасут, где легко повстречаться с врагом.
Испытанный странник пускается в путь до рассвета,
Когда еще росы блестят на ковре луговом.
Мир вам, останки жилища! Но разве знавали
Мир нежилые развалины с пеплом в мангале?
Мир только там, где, не ведая горя, живут,
Там, где не знают бессонницы, страха, печали.
Где оно, счастье, когда после радостных дней
Месяцы, долгие, словно века, миновали?
Сальма жила здесь когда-то. С тех пор пролилось
Много дождей на пустое жилище в Зу Хале.
Помню, как Сальма глядела на эти поля,
За антилопой следя, убегающей в дали.
Мнится, что в Вади аль-Хузаме встретимся вновь
Или в Рас Авале, где мы порой кочевали.
Помню, блестели ночами зубов жемчуга,
Шею газели моей жемчуга обвивали.
Ты говоришь мне, Басбаса, что я постарел,
Что для любовной утехи пригоден едва ли?
Лжешь! Чью угодно жену я могу обольстить,
Но на мою никогда еще не посягали.
Ночью и днем обнимал я подругу свою
С телом прекрасным, как будто его изваяли,
С ликом, сияющим ночью на ложе любви,
Словно дрожащий огонь в золоченом шандале.
Твердые груди ее, словно две головни,
Жаром дыша, под моею рукою пылали.
Нежными были ланиты ее, как твои.
Встав, мы одежду на ложе порой забывали.
Мне уступала она без отказа, когда
С плоти ее мои руки одежду срывали.
Из Азруата{17} я крался в пустыне за ней,
В Ятрибе{18} племя ее я застал на привале.
Я подобрался к шатру, когда звезды зажглись,
Словно огни путевые в полуночной дали.
Как подымаются в чистой воде пузырьки,
Люди в жилище один за другим засыпали.
Сальма сказала: «Проклятый! Погубишь меня!
Рядом родные и стража. Мы оба пропали!»
Я отвечал ей: «Всевышним клянусь! Не уйду!
Пусть меня рубят мечами из кованой стали!»
Стал лицемерно ее успокаивать я:
«Тихо вокруг, даже стражники все задремали».
И снизошла и обнять разрешила свой стан —
Тонкую ветвь, на которой плоды созревали.
С ней мы поладили, шепот наш ласковым стал,
И покорилась, хотя упиралась вначале.
Так мы сошлись. Но ее ненавистный супруг
Что-то заметил, хоть прочно не замечали,
Стал он хрипеть, как верблюд, угодивший в петлю,
Стал мне грозить, но таких храбрецов мы встречали.
Что мне бояться? И спать я ложусь при мече,
Синие стрелы всегда под рукою в колчане,
Их острия, словно зубы ифрита{19}, остры,
Недруг мой слаб. Не смутить нас пустыми речами.
Жалкий бахвал ни мечом не владел, ни копьем.
Сальма постигла бесплодность его причитаний
И поняла, что супруг ее трус и болтун,
Сердце ей страсть затопила, я стал ей желанней,
Раны верблюдицы так затопляет смола.
Где вы, прекрасные девы из воспоминаний?
Вы — как ручные газели в покоях дворца.
К белым шатрам я не раз приближался в тумане,
Девушек, негой охваченных, там заставал,
Были они пышногрудые, тонкие в стане.
Их красота и достойных сбивала с пути,
Многих сгубили они, эти нежные лани.
В страхе иных я отверг, а ведь были всегда
По сердцу мне и любви моей часто желали!
Разве, любовью влеком, не седлал я коня,
Трепетных дев не ласкал, чьи браслеты бряцали?
Разве в сражении не ободрял я друзей,
Целый бурдюк не высасывал в винном подвале?
Разве не мчался я на сухопаром коне,
Разве за мною в набег удальцы не скакали?
Ранней порою, когда еще птиц не слыхать,
Только дождинки и росы на травах сверкали,
Мы появлялись на пастбищах наших врагов,
Копья нам путь к этим влажным лугам преграждали,
Конь подо мной мускулистый, поджарый, гнедой,
Крепкий, как ткацкий станок, словно отлит в металле.
Мы антилоп всполошили, чьи гладки бока,
А через бедра полоски, как на покрывале.
Издали стадо — совсем как табун лошадей,
Спины в подпалинах, как чепраки, замелькали.
Коротконосый, рогатый вожак впереди,
Длинный хребет — как струна. То летит не стрела ли?
Вскачь я пустил своего скакуна. Догоняй!
И антилопы одна за другою отстали.
Кажется мне: но коня оседлал я — орла,
Кажется: крылья широкие тень распластали.
Кролика в Неджде орел на заре закогтит,
Если с лисицей не встретится в авральской дали.
Птичьи сердца высыхают в орлином гнезде,
С виду они как сушеные финики стали.
Если б желал я покоя, молил бы богов,
Чтобы они мне немножечко денег послали.
Но ведь стремлюсь я к иному: мне славу подай!
Я ведь из тех, кто с рожденья мечтает о славе.
Душу живую несчастия не сокрушат,
В лучшее верит она и надеяться вправе.
Слезы льются по равнинам щек,
Словно не глаза — речной исток,
Ключ подземный, осененный пальмой,
Руслом прорезающий песок.
Лейла, Лейла! Где она сегодня?
Ну какой в мечтах бесплодных прок?
По земле безжизненной скитаюсь,
По пескам кочую без дорог.
Мой верблюд, мой спутник неизменный,
Жилист, крутогорб и быстроног.
Как джейран, пасущийся под древом,
Волен мой верблюд и одинок.
Он, подобно горестной газели,
У которой сгинул сосунок,
Мчится вдаль, тропы не разбирая,
Так бежит, что не увидишь ног.
Не одну пустынную долину
Я с тревогой в сердце пересек!
Орошал их ливень плодоносный,
Заливал узорчатый поток.
В поводу веду я кобылицу,
Ветер бы догнать ее не мог,
С нею не сравнится даже ворон,
Чей полет стремительный высок,
Ворон, что несет в железном клюве
Для птенца голодного кусок.
Чьи огнища остались на этой поляне,
Вроде йеменских букв на листке или ткани?
Тут стояли шатры Хинд, Рабаб и Фартаны…
Сколько сладких ночей я провел в Бадалане.
Я любви отвечал в эти ночи любовью,
Взгляд влюбленный встречал и хмелел от желаний
Я горюю теперь, а когда-то рабыни
Слух мой пеньем ласкали, их нежные длани
Струн певучих касались, и струны звучали,
Как булаты, звенящие на поле брани.
Я судьбою сражен, а ведь прежде был стойким,
Не страшился ни смерти, ни бед, ни страданий.
Я горюю, а сколько земель я проехал
На коне крепкогрудом дорогой скитаний!
Смертный! Радуйся жизни, хмелей от напитка
И от женщин, прекрасных, как белые лани,
С тонким станом и с длинною шеей газельей,
В украшеньях, блестящих из-под одеяний.
Ну к чему из-за девушки иноплеменной
Плачешь ты, содрогаешься весь от рыданий?
Эти слезы — весенние краткие грозы,
Ливни летние, проливни осенью ранней.
Расстался я с юностью, но соблюдаю по-прежнему
Четыре завета, вся жизнь без которых бедна.
И вот за столом умоляю своих сотрапезников:
«Тащите скорей бурдюки золотого вина!»
И вот я скачу на коне среди храбрых наездников
За стадом газелей. Из них не уйдет ни одна.
И вот мой верблюд устремился в пустыню полночную,
Во мрак непроглядный, где даже луна не видна,
Песет седока на свиданье к далекому стойбищу,
Чтоб тот утолил неуемную жажду сполна.
И вот, наконец, я дышу ароматом красавицы,
Я вижу, она над младенцем своим склонена.
Я жду в нетерпенье, малыш голосит, надрывается,
В смятенье ребенка к себе прижимает она.
Я весть ей послал с осторожностью, чтобы не вскрикнула.
Бледнели созвездья, царила кругом тишина.
Во мраке пугливо прокралась подруга прекрасная,
Пришла, молодыми рабынями окружена,
Четыре служанки вели ее медленно под руки,
Покуда хозяйка совсем не очнулась от сна.
Одежды с нее я совлек, и она мне промолвила:
«Приходом твоим черноокая устрашена.
Позвать меня ночью никто бы другой не осмелился,
Но ведь от тебя я укрытья искать не вольна».
Руками меня оттолкнуть недотрога пытается
И скрыть наготу под узорным куском полотна,
И вдруг прижимается к сердцу пришельца отважного,
От страха и страсти всем телом дрожит, как струна.
Меткий лучник из бану суаль{20}
Край бурнуса откинет, бывало,
Лук упругий натянет, и вмиг
Тетива, как струна, застонала.
Сколько раз он в засаде следил
За газелью, ступавшей устало
К водопою по узкой тропе,
И стрела антилопу пронзала,
И мелькала в полете стрела —
Так летят угольки из мангала.
У стрелы были перья орла
И о камень отточено жало.
Старый ловчий без промаха бил,
Лань, сраженная им, не вставала.
Лишь охота кормила его,
Был он крепок, хоть прожил немало.
Верный спутник мой! Слез я не лил
В час, когда тебя, друг мой, не стало.
В зной жестокий лишь после тебя
Пил я воду прозрачней кристалла.
Брат мой! Светом ты был для меня.
Ярко так и луна не блистала!
Молю тебя, Мавия, дай мне скорее ответ:
Могу ли на встречу надеяться я или нет?
Утрата надежды нам отдых сулит от сомнений,
Устала душа, ведь немало ей выпало бед.
Скачу на коне, он пуглив, как осел одичавший,
Который вдоль пастбищ проносится ветрам вослед,
Который, насытившись, роет ложбину копытом,
Чтоб лечь с наступлением тьмы и проснуться чуть свет.
Он логово роет копытом, как роют колодец
В зыбучем песке, что полуденным солнцем нагрет.
На черный свой бок он ложится, как воин плененный,
Который от холода жмется, разут и раздет.
Курится бархан, как шатер, где справляют веселье,
Под склоном ночует осел и встречает рассвет.
Голодных свирепых собак из соседних становищ
К ночлегу осла на восходе привлек его след.
Глаза у овчарок горят, наливаются кровью,
Голодные псы предвкушают обильный обед.
И мчится осел, осыпает он хищников пылью,
И сам он, как уголь, золою подернутый, сед.
Он понял: сегодня ему не уйти от погони,
Что стая настигла его и спасения нет.
И рвут его кожу собаки. Так дети срывают
Тряпье с пилигрима, чтоб сделать себе амулет.
Овчарки осла утащили в колючий кустарник,
Оставили клочья от шкуры да голый скелет.
Тарафа