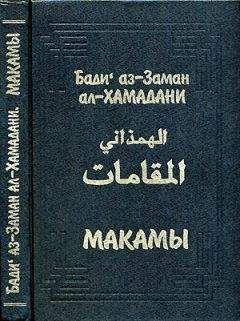Бади аз-Заман ал-Хамадани - Макамы (без иллюстраций)
Потом в пустыню мы воротились и вновь в дорогу пустились. Но вот иссякли наши запасы: похудели сосуды с водой, оскудели и сумки с едой. Мы сомневались и в продвижении, и в возвращении, двух убийц опасаясь — жажды и истощения.
Вдруг появился всадник — мы к нему обратились и устремились. Он подъехал к нам, сошел с породистого коня, дотронулся до земли руками, коснулся ее губами. Средь всех собравшихся он выбрал меня, ко мне подбежал, стремя мое облобызал и под мою защиту встал. Я на него взглянул: взора не оторвешь — строен станом, плечи могучие, лицо сияет, словно молния в черной туче, щеки пушком покрылись, усы над губой пробились. Вид у него не арабский — турецкий, наряд же царский, а не купецкий. Мы воскликнули:
— До чего же хорош! Откуда ты и куда идешь?
Он сказал:
— Я слуга одного правителя, который решил меня убить, и я бежал от него куда глаза глядят.
Поглядев на него, я поверил сразу в правдивость его рассказа.
Закончил юноша так:
— А сегодня тебе я служу, весь я тебе принадлежу.
Я ответил:
— Я очень этому рад. Тебя привела дорога в просторный сад, где жизни человеческой не угрожают.
Спутники меня поздравили — так он взорами всех поразил и речью своей пленил.
Он сказал:
— Господа мои! Тут есть родник под горой, вы долго скитались в пустыне скупой — хорошо бы вам запастись водой.
Мы повернули поводья, куда он нам указал; полуденный зной тела раскалял и саранчу оживлял. Он спросил:
— Не хотите ль в тени у воды немного вздремнуть, прежде чем отправляться в путь?
Мы ответили:
— Сделаем так же, как ты.
Он сошел с коня, пояс свой развязал, верхнюю куртку снял. Лишь рубашка прозрачная тело его облегала, красоту его не скрывала. Никто из нас больше не сомневался, что с райскими юношами[21] он разругался и из рая решил удалиться, чтоб от Ридвана[22] укрыться. Он седла снял, коней покормил травой, место, где мы отдыхали, обрызгал водой. Взгляды наши к нему устремлялись, умы от него смущались. Я сказал:
— О юноша, как ты в услуженье хорош, как ты во всем пригож! Горе тем, кого ты покидаешь, благо тем, кого сопровождаешь! Как мне Бога благодарить за счастливую встречу с тобой?
Он сказал:
— Могу я еще сильней удивить. Вам понравилось, как я в услуженье хорош и во всем остальном пригож. Я вам сейчас такие чудеса покажу, что еще сильнее к себе привяжу.
Мы сказали:
— А ну-ка!
Взял он у одного из наших спутников лук, натянул тетиву, положил стрелу и в небо ее пустил, послал вслед за ней другую и первую в воздухе расщепил. Затем проговорил:
— Теперь я покажу вам еще кое-что.
Взял он у меня колчан, подошел к моему скакуну, оседлал его и пустил стрелу, ею грудь одному из наших пронзил, другою стрелой в спину его поразил.
Воскликнул я:
— Горе тебе! Что же ты натворил?!
Он крикнул в ответ:
— Молчи, негодяй! Хочу, чтобы каждый из вас руки соседу скрутил, а если не справитесь — Богом клянусь, своей же слюной подавитесь!
Мы не знали, что и делать: коней он успел привязать, седла снять, а оружие наше далеко осталось лежать. Он был верхом, а мы пешими, и в руке у него лук, из которого можно и в спины стрелять, и животы и груди пронзать. Когда мы опасность осознали, то ремни свои взяли и друг друга связали. А я один в стороне остался стоять — некому было мне руки связать. Он сказал:
— Выйди из одежды своей в одной лишь коже, да поскорей!
И я разделся. Он слез с коня, начал пощечины всем раздавать и с каждого одежду срывать. Дошел до меня и видит, что на мне новые туфли. Он сказал:
— Матери у тебя нет! Сними их!
Я ответил:
— Но я их обул сырыми и снять никак не могу.
Он тогда:
— Я сам их сниму.
Приблизился он ко мне вплотную, а я незаметно протянул руку к ножу, что был спрятан в туфле. Пока злодей был занят моей туфлей, я ему нож в живот всадил и до самой спины протащил. Губ своих он уже не разомкнул, словно камень ему рот заткнул.
Я медлить не стал, руки всем развязал. Вещи убитых мы меж собой поделили, друга погибшего похоронили. И снова в путь пустились побыстрей и до Хомса добрались за пять ночей. Мы остановились на рынке, в незанятом месте, и увидели там мужчину, стоявшего с сыном и дочерью вместе. Посох был у него и сума, а говорил он такие слова:
Бог, воздай сердобольному,
Кто наполнит мешочек мой.
Бог, воздай тем, кто сжалится
Над Саидом и Фатимой.
Будут вам они слугами,
Будут преданы всей душой.
Говорит Иса ибн Хишам:
И тогда я подумал: «Человек этот — Александриец, о ком я был наслышан и о ком расспрашивал. Да, это он!» Я тихонько подошел к нему и сказал:
— Назначь сам, сколько тебе причитается.
Он ответил:
— Дирхем.
Я сказал:
Пока я живу, пока я дышу,
Твои дирхемы будут множиться.
Рассчитай по счету и попроси,
Чтоб о них потом не тревожиться.
И добавил:
— Дирхем умножим на два, на три, на четыре, на пять, — и так продолжал до двадцати считать. Затем спросил:
— Сколько же тебе дать?
Он ответил:
— Двадцать лепешек.
Я приказал дать ему, что он просил. Тогда он сказал:
— Нет удачи при невезении и нет избавления при лишении.
ГАЙЛАНСКАЯ МАКАМА
(седьмая)
Рассказывал нам Иса ибн Хишам. Он сказал:
Как-то раз, когда мы были в Джурджане в кругу друзей и беседовали, оказался в нашей компании человек, который держал в памяти и передавал многие истории об арабах, а именно Исмат ибн Бадр ал-Фазари. Зашла у нас речь о тех, кто уклонился от спора с противником из благоразумия, и о тех, кто уклонился от спора с противником из презрения к нему. Упомянули ас-Салатана ал-Абди и ал-Баиса[23] и какое презрение выказывали к ним Джарир и ал-Фараздак[24]. Исмат сказал:
Я расскажу вам, что я видел собственными глазами, а не передаю с чужих слов. В то время как я путешествовал по областям племени тамим на верблюдице отменной и вел в поводу для нее сменную, появился передо мной всадник на темно-бурой верблюдице, плюющейся пеной. Когда мы, поравнявшись, чуть не столкнулись, он громко произнес:
— Мир тебе!
Я откликнулся:
— И тебе мир и милость Бога и его благословение! Кто ты, о рыцарь громогласный, говорящий слова прекрасные?
Он ответил:
— Я — Гайлан ибн Укба, Зу-р-Румма[25].
— Рад видеть тебя, герой знаменитый, знатностью своей именитый, тот, чьи слова слышны повсюду.
— Да будут долины твои обширны, соседи мирны. А ты кто?
— Исмат ибн Бадр ал-Фазари.
— Да продлит Бог твою жизнь! Рад я славного друга найти, с тобою нам по пути.
Мы поехали вместе, и когда стал донимать нас полуденный зной, он сказал:
— Исмат, не поспать ли нам, что-то солнце припекает.
Я ответил:
— Как тебе угодно.
Мы направились к деревьям ала, похожим на девушек, локоны распустивших, и к зарослям тамарисков, шеи свои склонивших. Мы расседлали верблюдов, сели и принялись за еду, но Зу-р-Румма ел очень мало. Потом мы совершили молитву и расположились в тени тамарисков для полуденного сна. Зу-р-Румма улегся, я сделал то же самое: землю под спину себе подстелил, да только сон ко мне не спешил. Тут я увидел невдалеке верблюдицу, изнуренную солнцем, с большим горбом и без седла, а рядом спал человек, как видно, приставленный к ней, — то ли погонщик наемный, то ли раб подневольный. Однако я тут же отвлекся от них — ведь то, что тебя не тревожит, надолго привлечь не может. Зу-р-Румма поспал немного, затем проснулся. А было все это в то время, когда он высмеивал в стихах людей из племени мурра. Тут он возвысил голос и стал декламировать:
Остатки жилища красавицы Мейи!
Следы твои ветер шальной заметает.
Вот колышки, вот и очаг беспризорный —
Никто уж теперь его не разжигает.
Осели края водоема пустого,
Давно на кочевье никто не бывает.
А сколько людей здесь я видывал прежде
И Мейю — здесь все о ней напоминает.
Я к ней подходил, словно к нежной газели,
Что видит чужого — и прочь убегает.
Меня не пускал к ней ревнивец, который
Ее охраняет, за ней наблюдает.
Дойдет моя песня до Имруулкайса[26] —
Ведь каждый прохожий ее повторяет.
Хула моя к Имруулкайсу прилипла,
Как злая болячка его донимает.
Да полно! Поймут ли насмешку мурриты —
Ведь камень ни чувства, ни чести не знает!
Средь них не найдешь благородного духом
Героя, что племя свое защищает.
Испачканы грязью из лужи упреков,
В которую каждый муррит попадает.
Они — что куски неотделанной кожи,
Когда их дубильщик и мнет и пинает.
Их глаз не заметит поступков прекрасных,
А ухо красивым речам не внимает.
Их взрослые дочери — старые девы:
Жениться на них ведь никто не желает!
Когда Зу-р-Румма дошел до этого стиха, человек, спящий возле верблюдицы, проснулся, стал протирать глаза и сказал: