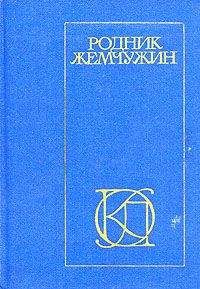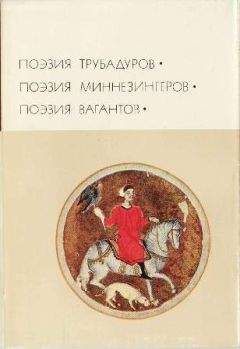Коллектив авторов - Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии
Лю Цзун-юань[808]
Первые два стихотворения в переводе Л. Эйдлина, далее — В. Рогова
Ранняя весна в ЛинлинеСпрошу весну — о том, когда она
Направится отсюда в Циньюань[809],
Чтоб с ней послать мои о доме сны.
Пусть хоть они войдут в родной мне сад.
Путь проходит водою, извиваясь, тысячи ли,
Да еще обезьяны где-то так тоскливо кричат.
Но опальный чиновник свои слезы выплакал все,
И его не встревожит обрывающий сердце крик.
Вздымается тысяча гор —
а птицы над ними летать перестали,
Лежат десять тысяч дорог —
но только следов на них больше не видно,
Лишь в лодочке старый рыбак
в бамбуковой шляпе, в плаще из соломы
Согнулся, закинув крючок,
а снег все идет, и река холодеет.
С ночи на западный темный утес
старый рыбак взошел,
Сянской воды на рассвете набрал,
чуский бамбук зажег.
Дым разлетелся, вот и заря,
нет ни души кругом,
Зелены горы и воды, в тиши
только уключин скрип.
Вижу, что к середине реки
снизился неба край,
А над утесом резво летят
легкие облака.
Рот полощу водой колодца, и холодно зубам.
Очищен разум, чисто сердце, с халата пыль стряхнул.
В руках сжимаю праздно книгу из пальмовых листов,[811]
Восточный павильон покинул, читаю нараспев.
Источник истинный навеки от разума сокрыт,
По следу ложному так часто стремятся в наши дни.
Словам оставленным, надеюсь, нас просветить дано;[812]
Добросердечье очень редко, и как созреть ему?
Даосский дворик тих и мирен, ни шороха кругом,
Сливается с глухим бамбуком темно-зеленый мох.
Восходит солнце, и от влаги тумана и росы
Как будто залил зелень сосен густой, блестящий лак.
Во мне все тает, растворилось, и трудно говорить…
Со мною радость просветленья —[813] что надо мне еще?
Я долго был связан с людьми, носящими шпильки,[814]
Но, к счастью, сослан к южным варварам был.
Я празден, соседи мои — огородник да пахарь,
Порой я похож на гостя гор и лесов.[815]
Я утром пашу — и трава в росе шевелится,
Бью ночью багром — и камни в ручье звенят.
Слоняюсь бесцельно, людей на пути не встречая,
И чуского неба лазурь протяжно пою.
Бо Цзюй-и[816]
Перевод Л. Эйдлина
Я остановился на ночь в деревне на северном склоне горы ЦзыгэС утра я бродил по склонам горы Цзыгэ,
А вечером спать к подножью в деревню сошел.
В деревне старик встретил радушно меня.
Он для меня открыл непочатый кувшин.
Мы подняли чарки, еще не пригубили их,
Свирепой толпой наемники в дом ворвались.
В лиловой одежде. Топор или нож в руке.
Их сразу набилось больше десяти человек.
Схватили они с циновки все наше вино,
И взяли они с блюда всю нашу еду.
Хозяину дома осталось в сторонку встать
И руки сложить, как будто он робкий гость.
В саду у него было дерево редкой красы,
Что он посадил тридцать весен тому назад.
Хозяину дома жалко стало до слез,
Когда топором под корень рубили ствол…
Они говорят, что им велено строить дворец.
Они берегут государев священный покой!
Хозяину дома разумней всего молчать:
Начальник охраны в большой при дворе чести.
Посадил орхидею, но полыни я не сажал.
Родилась орхидея, рядом с ней родилась полынь.
Неокрепшие корни так сплелись, что вместе растут.
Вот и стебли и листья появились уже на свет.
И душистые стебли, и пахучей травы листы
С каждым днем, с каждой ночью набираются больше сил.
Мне бы выполоть зелье, — орхидею боюсь задеть.
Мне б полить орхидею, — напоить я боюсь полынь.
Так мою орхидею не могу я полить водой.
Так траву эту злую не могу я выдернуть вон.
Я в раздумье: мне трудно одному решенье найти.
Ты не знаешь ли, друг мой, как в несчастье моем мне быть?
В год восьмой, в двенадцатый, зимний, месяц,
В пятый день сыплет и сыплет снег.
Кипарис и бамбук замерзают в садах и рощах.
Как же вытерпят стужу те, кто раздет и бос?
Обернулся, гляжу — в этой маленькой деревеньке
На каждый десяток восемь-девять дворов в нужде.
А северный ветер, как меч боевой, отточен,
И ни холст, ни вата не прикроют озябших тел.
Только греются тем, что жгут в лачугах репейник
И печально сидят всю ночь, дожидаясь дня.
Кто же не знает, что в год, когда стужа злее,
У бедного пахаря больше всего невзгод.
А взгляну на себя — я в это самое время
В домике тихом затворяю наглухо дверь.
Толстым халатом накрываю шелк одеяла.
Сяду ли, лягу — вволю теплом согрет.
К счастью, меня миновали мороз и голод.
Мне также неведом на пашне тяжелый труд.
Но вспомню о тех, и мне становится стыдно:
Могу ль я ответить — за что я счастливей их?
Холст из Гуэй бел, точно свежий снег.
Вата из У нежнее, чем облака.
И холст тяжелый, и ваты взят толстый слой.
Сшили халат мне — вот уж где теплота!
Утром надену — и так сижу дотемна.
Ночью накроюсь — спокойно сплю до утра.
Я позабыл о зимних морозных днях:
Тело мое всегда в весеннем тепле.
Но как-то средь ночи меня испугала мысль.
Халат я нащупал, встал и заснуть не мог:
Достойного мужа заботит счастье других.
Разве он может любить одного себя?
Как бы добыть мне халат в десять тысяч ли,
Такой, чтоб укутать люд всех четырех сторон.
Тепло и покойно было бы всем, как мне,
Под нашим бы небом не мерз ни один бедняк!
Я с давних пор люблю Тао Юань-мина. В прежние годы, когда я не был занят службой и жил на реке Вэй, я написал шестнадцать стихотворений в подражание Тао. Теперь, посетив Лушань, побывав в Чайсане и в Лили[817], думая об этом человеке и навестив его жилище, я не могу молчать и снова пишу стихи.
Самой страшною грязью осквернить невозможно нефрит.
Фэн, волшебная птица, пищи, салом смердящей, не ест…
О «спокойный и чистый», нас покинувший Тао Цзин-цзе,[818]
Жизнь твоя охватила гибель Цзинь и восшествие Сун.[819]
Глубоко в своем сердце ты хранил благородную мысль,[820]
О которой устами людям прямо поведать не мог.
Но всегда поминал ты сыновей государя Гучжу,
Что, одежду очистив, стали жить на горе Шоуян.[821]
Бо и Шу, эти братья, оказались на свете одни,
И мучительный голод их поэтому и не страшил.
У тебя ж, господин мой, в доме выросло пять сыновей,
И они разделяли нищету и несчастья с тобой;
И в семье твоей бедной никогда не хватало еды,
И на теле носил ты весь в заплатах потертый халат.
Ко двору приглашали, но и там ты служить не хотел.
Вот кого мы по праву настоящим зовем мудрецом!
Я на свет появился, государь мой, намного поздней:
Пролегли между нами пять столетий, пять долгих веков,
Но когда я читаю «Жизнь под сенью пяти твоих ив»,[822]
Я живым тебя вижу и почтительно внемлю тебе.
Как-то в прежнее время, воспевая заветы твои,
«В подражание Тао» сочинил я шестнадцать стихов.
Наконец я сегодня навещаю жилище твое,
И мне кажется, будто и сейчас ты находишься в нем…
Не за то ты мне дорог, что любил, когда в чаше вино,
Не за то ты мне дорог, что на цине бесструнном играл.
То всего мне дороже, что, корыстную славу презрев,
Ты на старости умер среди этих холмов и садов!
А Чайсан, как и прежде, — с деревенькой старинной, глухой.
А Лили, как и раньше, — под горою, у той же реки.
Я уже не увидел под оградой твоих хризантем,
Но еще задержался в деревнях расстилавшийся дым.[823]
О сынах и о внуках мир хотя не узнал ничего,
Но доныне потомки с мест, обжитых тобой, не ушли;
И когда я встречаю с добрым именем Тао людей,
Снова каждая встреча расставаньем пугает меня!
Гость недавно пришел из Цзяннани к нам.
В ночь прихода месяц рождался вновь.
В странах дальних, где путник долго бродил,
Трижды видел он чистый и светлый круг.
Утром вслед за ущербной луною шел,
Ночью рядом с новым месяцем спал.
Чьи это сказки, что нет у луны души?
Тысячи ли разделяла невзгоды с ним!
Утром встанет на мост над рекою Вэй,
Ночью выйдет на старый Чанъаньский путь.
Разве скажешь, еще у кого в гостях
Этой ночью будет светить луна?
Наконец-то сегодня Сун и Ло у меня пред глазами:
Я назад обернулся и вздыхаю о тяготах мира,
Где цветенье и слава преходящи, как быстрые воды,
Где печали и беды поднимаются выше, чем горы.
Только горе изведав, знаешь радости полную цену,
После суетной жизни станет милым блаженство покоя.
Никогда не слыхал я, чтобы птица, сидевшая в клетке,
Улетев на свободу, захотела вернуться обратно.
После того, как впервые расстался с Юанем Девятым[824], вдруг увидел его во сне, а когда проснулся, получил от него письмо вместе со стихотворением о цветах туна. Растроганный и взволнованный, посылаю ему эти стихи.