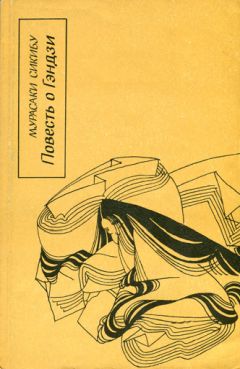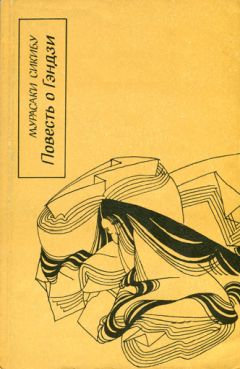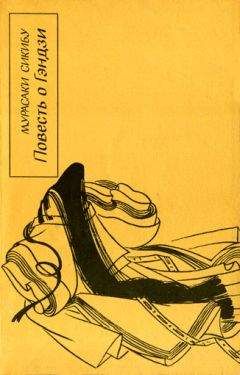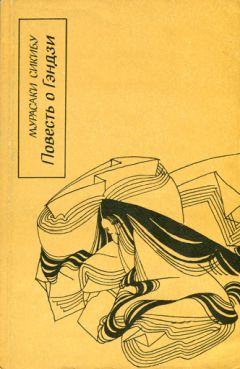Мурасаки Сикибу - Повесть о Гэндзи (Гэндзи-моногатари). Книга 2
– Окончательно порвав с суетным миром, я поселился в этой глуши и спокойно жил здесь, пока не возникло одно совершенно неожиданное для всех нас обстоятельство, принудившее меня снова искать пристанища в столице, – говорил Вступивший на Путь. – Но, признаться, меня пугает необходимость погрузиться в гущу столичной жизни, полной блеска и суеты. Я слишком долго жил в провинции, и всякий шум претит мне. Потому-то мне и захотелось отыскать какую-нибудь тихую, старую усадьбу. Все расходы я возьму на себя. Нельзя ли так перестроить этот дом, чтобы в нем можно было жить вполне прилично?
– За долгие годы не нашлось никого, кто предъявил бы права на это жилище, и оно постепенно приобрело весьма жалкий вид, – отвечал сторож. – Сам я живу в служебных помещениях, которые мне удалось привести в порядок. Должен вам сказать, что начиная с весны в окрестностях царит небывалое оживление: господин министр Двора строит неподалеку храм. Здание будет, очевидно, внушительным, во всяком случае людей собрано немало. Так что, если вы желаете тишины, это место вам вряд ли подойдет.
– Да нет, почему же? Тем более что по некоторым обстоятельствам мое семейство вправе рассчитывать на покровительство господина министра. Что касается состояния дома, то со временем все наладится. Вас же мне хотелось попросить как можно быстрее подготовить самое необходимое.
– Видите ли, я не являюсь владельцем этих земель, но, поскольку передать их мне было некому, я и жил там все это время в тишине и покое. Дабы луга, поля и прочие угодья не пришли в полное запустение, я распоряжался ими по своему усмотрению, заручившись предварительно разрешением покойного Мимбу-но таю и выплачивая все что полагается, – недовольно скривившись, сказал сторож.
Судя по всему, он испугался за нажитое добро. Нос его покраснел, на безобразном, заросшем волосами лице застыла недоверчивая ухмылка.
– До полей и прочего мне нет дела. Можете распоряжаться ими так же, как распоряжались до сих пор. Разумеется, у меня есть все, какие положено, грамоты на владение этими землями, но, не желая обременять себя мирскими заботами, я до сих пор пренебрегал ими. Надеюсь, что теперь мне удастся наверстать упущенное, – сказал Вступивший на Путь, а поскольку было упомянуто имя министра Двора, сторож забеспокоился и поспешил приступить к перестройке дома, получив на это весьма значительные средства из Акаси.
Гэндзи, ничего не ведавший о замысле старика, недоумевал, не понимая, почему женщина так упорно отказывается переехать в столицу. Он боялся, что имя его дочери окажется навсегда связанным с диким побережьем Акаси – обстоятельство, которое могло иметь губительные последствия для ее будущего.
Но тут как раз закончили перестройку дома, и Вступивший на Путь сообщил Гэндзи: «Вот, дескать, вспомнил случайно о существовании такого жилища…»
Разумеется, Гэндзи сразу понял, что мысль о собственном доме возникла не случайно: видимо, женщина боялась затеряться среди прочих дам, живущих под его покровительством. «Что ж, вполне достойное решение», – подумал он и отправил в Ои Корэмицу, неизменного помощника своего в таких делах, поручив ему позаботиться о том, чтобы все было устроено надлежащим образом.
– Место прекрасное, есть даже некоторое сходство с морским побережьем, – доложил Корэмицу, вернувшись, и Гэндзи успокоился: «Что ж, может, это и к лучшему».
Храм, который по его распоряжению строили в горах, чуть южнее Дайкакудзи[2], производил прекрасное впечатление, а Павильон у водопада[3] был не хуже, чем в самом Дайкакудзи.
Усадьба, предназначавшаяся для женщины из Акаси, стояла на берегу реки. Редкой красоты сосны окружали главное здание, строгое и простое, отмеченное особым очарованием сельского жилища. Обо всем, вплоть до внутреннего убранства, позаботился министр.
И вот наконец он тайно отправил в Акаси самых преданных своих слуг.
«Увы, пора…» – вздыхала женщина, понимая, что разлука с Акаси неизбежна. Ей было грустно покидать этот дикий берег, где она прожила столько лет, не хотелось оставлять отца одного. Мысли одна другой тягостнее теснились в ее голове.
«Неужели рождена я для того лишь, чтобы вечно предаваться печали?» – думала она, мучительно завидуя тем, на кого не упала роса его любви.
Могли ли старые родители не радоваться счастью дочери, увидав, сколь пышную свиту прислал за ней Гэндзи? Наконец-то исполнялись их заветные чаяния, и когда б не омрачала радости мысль о близкой разлуке… Вступивший на Путь, в старческой расслабленности пребывая, и днем и ночью повторял: «Неужели никогда больше не увижу нашей малютки?» И кроме этого, от него нельзя было добиться ни слова. С жалостью глядела на него супруга. Они давно уже не жили под одним кровом, и, решись она остаться здесь, в Акаси, ей совершенно не на кого было бы положиться. И все же… Люди, соединенные случайно и не успевшие сказать один другому даже нескольких слов, и те, словно «сроднившись давно» (160), печалятся, когда приходит разлука. Чем же измерить горе супругов, проживших рядом долгие годы? Разумеется, своенравный старик никогда не был для нее надежной опорой, но, примирившись со своей участью, она вовсе не собиралась оставлять его теперь, когда к концу приближался ей отмеренный срок (161), и полагала, что это побережье будет ее последним прибежищем. И вот приходилось расставаться…
Молодые дамы, которым давно уже наскучила здешняя жизнь, радовались отъезду, но иногда взоры их обращались невольно к прекрасной морской глади. «А ведь мы никогда больше не вернемся сюда…» – думали они, и слезы, смешиваясь с брызгами набегающих волн, увлажняли их рукава.
Стояла осень, пора, всегда располагающая к унынию. На рассвете того дня, на который был намечен отъезд, дул прохладный осенний ветер, назойливо звенели насекомые. Женщина сидела, любуясь морем, а Вступивший на Путь, встав сегодня ко второй ночной службе гораздо раньше обыкновенного, читал молитвы, то и дело всхлипывая. Никто не мог сдержать слез, хотя они и считаются в такой день дурным предзнаменованием.
Девочка была необычайно хороша собой – словно тот самый драгоценный нефрит, излучавший сияние в ночи[4]. До сих пор старик не отпускал ее от себя, да и она успела к нему привязаться. Разумеется, он понимал, что монах не должен питать в своем сердце такие чувства, но, увы, он и часа не мог прожить без нее…
– В миг разлуки молюсь,
Чтобы жизненный путь для тебя
Всегда был удачен.
Но под силу ли старику
Удержаться сегодня от слез?
О, как это дурно! – сказал он, старательно вытирая глаза.
– Вместе с тобой
Покидали когда-то столицу,
А теперь я одна
Возвращаюсь. Придется ли мне
Блуждать по знакомым тропинкам? (162) -
ответила монахиня.
Никто не удивился, увидав, что она плачет. Сколько же долгих лет легло на их плечи с того дня, как обменялись они супружеским обетом!
И вот, имея столь неверный источник надежд, возвращается она в давно покинутый мир. Не тщетно ли? А молодая госпожа сложила:
Впереди – дальний путь.
Не знаю, когда мы с тобою
Встретимся вновь?
Нам неведомы сроки, и все же
В сердце надежда живет…
– Хотя бы проводите нас, – умоляла она, но Вступивший на Путь отказался, объяснив, что разного рода причины мешают ему покинуть Акаси. Вместе с тем он не мог не думать о тяготах предстоящего им пути, и мучительное беспокойство проступало на его лице.
– Жертвуя своим положением при дворе и удаляясь в чужие земли, я надеялся, что именно таким образом мне удастся изыскать средства, необходимые для вашего образования. Получив немало свидетельств своего неудачного предопределения, я отказался от мысли вернуться в столицу, где, разорившись, наверняка примкнул бы к числу так называемых «бывших» наместников и не сумел бы даже восстановить прежний облик нашего бедного дома, сплошь заросшего полынью и хмелем. В конце концов моя жизнь, и частная и общественная, стала бы предметом для насмешек и оскорблений, а память предков моих была бы навечно покрыта позором. К тому же я с самого начала дал понять, что мой переезд в провинцию является лишь первым шагом на пути к полному отказу от всего мирского, и был уверен, что мне удастся пройти по этому пути до конца. Однако, по мере того как вы взрослели и начинали проникать в суть явлений этого мира, я все чаще задавал себе вопрос: «Для чего прячу я эту драгоценную парчу в жалком захолустье?» – и душа моя блуждала впотьмах (3), а в голове теснились тревожные думы. Уповая на будд и богов, я молил их об одном – чтобы вы не остались до конца дней своих в бедной горной хижине, куда занесло вас несчастливое предопределение отца.
И даже когда пришла к нам наконец удача, о какой мы и мечтать не смели, я долго терзался сомнениями, ибо яснее, чем когда-либо, понимал, сколь незначительно ваше положение в мире. Но скоро родилось это милое дитя, и, увидав в его рождении еще один знак вашего счастливого предопределения, я решил, что вы ни в коем случае не должны оставаться на этом диком побережье. Я знаю, что вашей дочери предназначена особая участь. Меня приводит в отчаяние мысль, что я никогда больше не увижу ее, но я давно уже полон решимости отказаться от мира, а вы изволите нести в себе свет, который должен его озарить. Видно, такова была ее судьба – попасть ненадолго в эту горную хижину и лишить покоя душу ее обитателя. Что ж, не зря ведь говорят: «Люди, которым предстоит переродиться на небесах, должны на некоторое время вернуться на одну из трех дурных дорог[5]. Вот и мне тоже предстоит пережить боль этой разлуки. Если дойдет до вашего слуха когда-нибудь, что покинул я этот мир, не извольте беспокоиться о поминальных обрядах, да не взволнует вашего сердца эта неизбежная разлука… (26) – решительным тоном сказал старик, но тут же лицо его исказилось от сдерживаемых рыданий. – Может быть, человек, стремящийся очистить сердце от суетных помышлений, не должен так поступать, но отныне и до той ночи, когда дымом вознесусь в небо, я каждый день, во время всех шести служб, стану молиться за наше дитя.