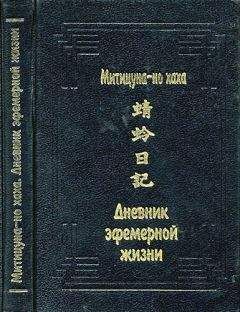Митицуна-но хаха - Дневник эфемерной жизни (с иллюстрациями)
Она ответила:
Когда Вы слышите
Кукушки кукованье,
Ее судьба
Вас не касается
Совсем.
Пятого числа, в день Ириса, он написал:
День Ириса
Проходит раз за разом —
Он ясно видит,
Как проходят годы,
А я все думаю и думаю о Вас.
Ее ответ:
Не думаю об ирисе,
Который годы громоздит.
Лишь вижу —
И сегодняшний
День Ириса пройдет.
Я только удивляюсь, за что это она так ненавидит?
У меня самой все мысли в этом месяце были о Канэиэ. Двадцатого числа я получила от него записку: «Мне хочется дать эту продуктовую сумку человеку, который отправляется в дальнее путешествие. Пришей здесь внутри мешок». А когда я пришила, он прислал новую записку: «Сделала ли ты, о чем я просил? Хорошо бы, ты всю сумку заполнила стихами. Я себя неважно чувствую, стихи писать не могу». Мне стало забавно, и я ответила: «Раз ты просишь об этом, я положу туда все стихи, какие только сочинила. Боюсь только, ну, как они просыплются и потеряются. Может быть, ты пришлешь еще одну сумку?».
Проходит еще два дня, и он присылает много стихотворений и письмо с ними: «Я долго неважно себя чувствовал, и это отвлекало меня. Но ничего не поделаешь — вот полная сумка с моими стихами. А вот ответы на них, — было там написано, — прошу тебя определить лучшие из них». Погода была дождливая, и я просматривала стихи, ожидая, когда у меня появится лирическое настроение. Было видно, что одни из них лучше, другие хуже, но вместо того, чтобы с важным видом производить оценку, я написала так:
Так сильны
Эти ветры,
Что дуют отсюда!
Уступают им
Встречные, дуют слабей.
И больше ничего отвечать не стала.
В шестую и седьмую луну Канэиэ приходил ко мне как обычно. В конце седьмой луны, двадцать восьмого числа, он сказал мне:
— Я был при дворе, на состязаниях по борьбе, решил поехать сюда и быстро ушел.
После этого я не видела его до двадцатых чисел восьмой луны. По слухам, он в это время часто бывал у другой женщины. Я подумала тогда, что его привязанности переменились, и жила, совсем лишившись душевного равновесия.
Дом, в котором я жила, все больше приходил в негодность, и мой отец, обеспокоенный этим, решил, что людей со мной немного и мне лучше всего переехать в его дом в Хирохата Накагава. Сделать это нужно сегодня или завтра. Что это когда-нибудь произойдет, я говорила Канэиэ не однажды, но теперь решила, что нужно еще раз напомнить и велела передать ему: «Надо кое о чем тебе сказать».
— У меня воздержание, приехать не могу, — ответил Канэиэ, и я решила, что раз он не составит мне компанию, делать нечего, и переехала без звука.
Здесь близко были горы, дом был расположен на берегу реки, вода в реке стремилась куда хотела, и само жилище показалось мне очаровательным.
Похоже, что Канэиэ дня два или три не знал о моем переезде. Лишь двадцать пятого или двадцать шестого числа я получила записку, где значилось только: «Сбежала, не сказавшись». В ответ я написала: «Я подумала, что не стоит извещать тебя о том, что я переехала: мне кажется, что в таком убогом месте ты не станешь меня навещать. А на прощанье, думала я, нужно было позвать тебя — встретиться там, где мы привыкли видеться с тобою». «Так тому и быть. Если место неудобно для посещений…» — написал тогда Канэиэ и на этом прекратил посещения.
Однажды в девятую луну, когда подняли шторы и я выглянула наружу, у меня возникло грустное чувство при виде того, как на самой усадьбе и снаружи ее от реки стоял туман; вдали виднелись горы, подножия которых были также закрыты туманом.
Прошу,
Чтобы река текла
По ложу своему.
Скрывает Накагава
Наши чувства.
Поля перед восточными воротами усадьбы были сжаты, перед глазами тянулись ряды развешенной соломы. Когда к нам время от времени кто-нибудь приезжал, я посылала за свежей соломой — накормить лошадей, и за рисом нового урожая — приготовить еду. Сын увлекался соколиной охотой и потому езживал поразвлечься с соколами. Вот стихотворение, которое он, кажется, послал все той же даме:
У одеянья юбка
Не завязана.
Тянется шнурок,
Не кончается.
Ночь подходит к концу.
Ответа не было. Через некоторое время он опять написал:
На рукаве моем
Как роса, слеза остыла.
Уж светает.
Ночи эти долгие
Вы с кем проводите?
На этот раз ответ был, но я его не записала.
До конца этой луны оставалось еще больше двадцати дней, Канэиэ перестал ко мне приезжать. К моему возмущению, он передал мне свои зимние вещи: «Сделай это!». Посыльный, с глупейшим видом, заявил:
— От господина было и письмо, да я его где-то обронил.
Я решила не посылать ответ: я же не знаю, что за настроение было в письме. И все, что было передано, я сделала, отослав назад без письма.
После этого ко мне никто не приезжал даже во сне, на том и год кончился.
В конце девятой луны Канэиэ опять безо всякого письма велел передать мне нижние одеяния со словами: «Сделай это». Я не знала, как поступить, но, поговорив то с одним, то с другим, решила: «Надо еще раз посмотреть на его истинные намерения. Иначе я покажу, будто ненавижу его». Я взяла эти одеяния, почистила их и в первый день десятой луны передала через сына, который сообщил, что отец сказал ему:
— Очень чисто.
Нельзя сказать, чтобы я была недовольна.
В одиннадцатую луну этого года в доме скитальца по уездам родился ребенок. Я не могла быть на этом торжестве, но решила поехать хотя бы на празднование пятидесяти дней со дня рождения младенца. Особенно пышного я ничего не могла предпринять, хотела лишь преподнести благопожелания. Подарок сделала обычный: к корзине с белыми детскими одеждами прикрепила ветку сливы, и ко всему этому — стихотворение:
Зима меня загородила
Сугробами.
Теперь она прошла,
И вот сегодня у ограды
Сливы зацветают.
С приходом ночи я отправила с этим подарком главу отряда охраны дворца, так называемых «поясных мечей». Посыльный наутро вернулся, привезя мне светло-красные нижние шаровары и стихи:
Первый цветок,
Что расцвел среди снега
На сливовой ветке —
Как он благоухает,
Услышав молитвы твои!
Таким было ответное стихотворение, и так прошли предновогодние дела.
Одна дама пригласила меня:
— Поедем куда-нибудь в безлюдное место!
— Обязательно, — согласилась я, но, когда мы приехали в назначенное место, паломников там оказалось много. И хотя было мало вероятности, что меня кто-то может узнать, я была единственным человеком, который чувствовал себя неловко. С крыши молельного павильона свешивались сосульки. Когда мы, возвращаясь после молитвы, любопытствуя разглядывали их, мимо нас прошел взрослый человек в детском облачении, с красиво убранными волосами. Гляжу, он держит (завернутым в рукав своего одинарного облачения) кусок льда и грызет его. Я подумала, что у него для этого есть какая-то причина, и тут человек, шедший со мною вместе, заговорил с ним. Со ртом, набитым льдом, тот ответил:
— Вы изволите ко мне обращаться?
Услыхав его речь, я поняла, что это простолюдин. Опустив голову вниз, человек сказал:
— А кто этого не ест, тот не делает того, что хочет.
— Несчастный, — пробормотала я, — у такого человека всегда мокрые рукава. — И снова подумала:
Тот лед,
Что в рукаве моем,
Весны не знает.
Но кто-то ведь хранит
Весну в душе!
Вернувшись домой, всего через три дня я отправилась на поклонение в храм Камо. В его окрестностях стало темно от снегопада и ветра, и на душе сделалось грустно. Ветер продолжал дуть, и так прошли одиннадцатая и двенадцатая луны.
Пятнадцатого числа горят огоньки расцвечивания.
Слышалось, как мужчины, приставленные к таю для разных поручений, с шумом восклицали:
— Огни горят!
Они все больше пьянели, доносились их голоса:
— Эй, спокойно!
Мне сделалось забавно, я подошла к краю веранды, выглянула наружу. Ярко светила луна. Горы, которые виднелись далеко на востоке, были закрыты туманом, вид их завораживал, проникал в душу. Я стояла, привалившись к столбу, и думала о том, что не могу уйти от воспоминаний о Канэиэ, с которым перестала встречаться после восьмой луны. Слезы было не удержать. И сложились стихи: