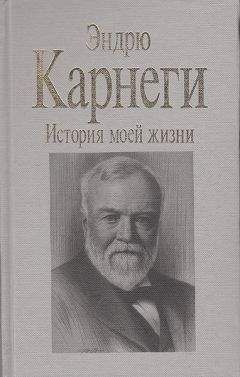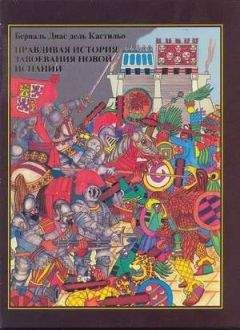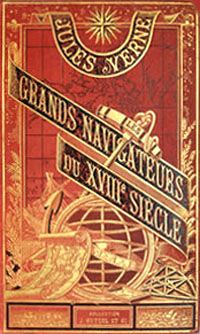Публий Афр - Комедии
Наконец, дидаскалии сообщают, какой по порядку сочинена та или иная комедия, причем здесь не обходится без некоторых неясностей и противоречий. Так, «Свекровь» названа пятой, что соответствует времени ее последней, успешной постановки; вместе с тем «Самоистязатель» назван третьим — как видно, с учетом того, что до него была написана «Свекровь», которую поэтому правильнее было бы считать второй. Между тем вторым по порядку сочинения в дидаскалии по необъяснимой причине назван «Евнух», написанный после «Самоистязателя».
Периохи — стихотворные изложения содержания комедий — принадлежат римскому грамматику Гаю Сульпицию Аполлинарию (II в. н. э.) и сочинены, вероятно, по образцу таких же «предисловий» в стихах к комедиям Менандра (нам известны благодаря папирусным находкам периохи к двум его пьесам).
Списки действующих лиц в изданиях латинского текста составляются в порядке их появления на сцене и с минимальными уточнениями («юноша», «раб» и т. п.). В переводе имена персонажей сгруппированы и объяснены таким образом, чтобы облегчить читателю понимание родственных и других отношений между ними.
Имена действующих лиц большей частью «говорящие», т. е. вызывают представление о греческих корнях, носителях определенного смысла. Аудитория Теренция несомненно улавливала этот смысл вследствие достаточно длительного соприкосновения с грекоязычными элементами: с VIII в. вдоль западного и южного побережья Италии от Неаполя до Тарента стали возникать греческие поселения; после подчинения Риму Тарента (272 г.) усилился приток греческих рабов, который еще больше возрос после победы над македонским царем Персеем при Пидне. Все это содействовало хотя бы поверхностному усвоению греческого языка достаточно широкими слоями римской театральной публики.
Наиболее прозрачно расшифровываются имена молодых людей и рабов. Памфил — «всеми любимый» (как и Памфила — «всеми любимая», т. е. юная, добрая и т. п.), Федрия — «веселый, сияющий», Херея — «радостный», Харин — «приятный», Гликерия — «сладостная», Филумена — «любимая», Антифила — «отвечающая любовью на любовь». Гетера чаще всего носит имя Вакхиды, ассоциирующееся с богом опьянения Вакхом и его спутницами — неистовыми вакханками; другое очень распространенное имя для гетеры — Хрисида («золотая», «золотко»); представительница той же профессии по имени Филотида отличается бо́льшим постоянством в своих привязанностях.
Рабы характеризуются либо по происхождению, либо по сценическим функциям. По происхождению: Сир, Сириск, сводня Сира — из Сирии; Мисида — из Мисии (в Малой Азии); Дав — из Дакии; Гета — обычное имя для рабов из фракийского племени гетов. По сценическим функциям: Парменон — «постоянно находящийся» при своем господине, Дромон — «бегущий» по его поручениям, Сосия — «спасающий» его, «хранитель», Биррия — «рыжий».
Достаточно выразительны имена стариков: Демея, Демифон, Менедем связаны со словом «дем» (так назывались административные единицы в Аттике), стало быть, старики — исконные жители, постоянно находящиеся в своем деме; Хремет — «кашляющий», «отхаркивающий» (правда, один раз так назван и молодой человек); Фидипп — «берегущий коней»; Лахет — «вытянувший жребий», т. е. «состоятельный»; Симон — вероятно, «курносый»; Критон — «рассуждающий», «разрешающий» спор; Гегион — «ведущий» дело к концу. Иногда, впрочем, в эти имена может быть вложен иронический смысл — таковы в «Формионе» «советники» Гегион, Критон и Кратин («имеющий силу»), после совещания с которыми Демифон соображает еще меньше, чем раньше.
В именах пожилых женщин подчеркивается либо их надежность (хозяйка дома Сострата и кормилица Софрона ассоциируются с понятием «сохранности», «спасения»; Софрона — «благоразумная»), либо воинственность (Навсистрата — здесь соединяются корни со значением «корабль» и «сражение», — т. е. «готовая ринуться в морское сражение»). Повивальная бабка Лесбия, любительница выпить, происходит с о-ва Лесбоса, известного хорошими сортами винограда.
Наконец, воин Фрасон значит «дерзкий», его парасит Гнафон — «разевающий челюсти», сводники Дорион — «получающий дары» от юношей, Саннион, вероятно, «виляющий хвостом» перед ними же, т. е. заманивающий молодых людей.
Обращаясь непосредственно к тексту комедии, читатель должен иметь в виду целый ряд обстоятельств формального и смыслового характера, общих для всех комедий.
Во-первых, как указывалось во вступительной статье, Теренций пользуется не одним, наиболее близким нашему слуху стихотворным размером — шестистопным ямбом (по римской терминологии — ямбическим сенарием), но и семистопными (сентенариями), и восьмистопными (октонариями) ямбами, а также семи- и восьмистопными трохеями (-U). При этом размер меняется довольно часто (иногда по нескольку раз в пределах одного монолога), и обозначение в комментарии каждого такого случая не только сильно загромоздило бы аппарат, но и без конца отвлекало бы читателя от содержания текста. Поэтому ниже будут отмечены только два, редких для Теренция случая введения сольных арий, для которых он пользуется так называемыми лирическими размерами. В остальном читателю предлагается развить в себе необходимую восприимчивость к основным стихотворным размерам теренциевской комедии, чтобы переход от одного к другому не казался ему нарушением ритма.
Во-вторых, внешние условия римского театра в эпоху Теренция значительно отличались от привычных современному зрителю и влекли за собой ряд технических приемов, с которыми римская публика легко мирилась, вовсе не сознавая их условного характера.
Постоянного театра в Риме во II в. не было, и подмостки для представления возводились под открытым небом перед каждым праздником заново. Достаточно широкая, но не глубокая сценическая площадка ограничивалась невысоким задником с двумя или тремя дверями, обозначавшими вход в расположенные по соседству дома, и место действия мыслилось как площадь или улица перед этими домами. Занавеса не было, антрактов тоже; поэтому перемена места действия была невозможна и обо всем, что происходило внутри домов, мог только сообщить какой-нибудь из выходящих оттуда персонажей. Нередко при этом они появлялись на сцене, обращаясь с несколькими словами в приоткрытую дверь, — так создавалась иллюзия продолжения на сцене действия или разговора, начавшегося за ее пределами. Если действующее лицо, покидая сцену, должно было уйти в город — на рыночную площадь (форум), в гавань и т. п., к его услугам были лесенки, приставленные к помосту. С их же помощью перед зрителями появлялись персонажи, вернувшиеся из дальних странствий, из другого города или с той же базарной площади.
Довольно значительная ширина помоста объясняет частое употребление сценического приема, суть которого сводится к тому, что одновременно находящиеся на нем действующие лица какое-то время не видят друг друга. То раб, бегущий по внешней стороне площадки, «не замечает» находящегося у своего дома хозяина; то один персонаж, выходящий из крайней правой двери, не видит своих соседей, только что беседовавших у крайней левой двери; то появление нового действующего лица остается не замеченным другими, уже находящимися на сцене. Этот нехитрый прием сценической иллюзии обычно служил в античной комедии источником достаточно комических ситуаций.
Переходя к содержанию комедий, мы прежде всего столкнемся с таким своеобразным их элементом, как прологи. Как уже говорилось во вступительной статье, Теренций заменил экспозиционные прологи (однажды он прямо обращает на это внимание аудитории — «Братья», 22) полемикой по литературным вопросам, направленной против достаточно известного драматурга Лусция Ланувина, не называя его, впрочем, нигде по имени. Однако во всех случаях, когда Теренций говорит о своем «враге, поэте старом», который его «задел первым», о «зложелателях» и «завистниках», имеется в виду Ланувин и его окружение. Нападки на Теренция были двоякого рода и затрагивали как его творческий метод, так и его творческие возможности.
По первому пункту расхождения касались права римского автора на соединение в одной пьесе материала из двух разных греческих комедий. (Для обозначения этого приема обычно пользовались термином «контаминация», но в последнее время исследователи римской комедии, исходя из текста Теренция, все больше приходят к выводу, что в глазах его противников слово «контаминация» было не нейтральным понятием, обозначавшим прием как таковой, а носило осуждающий характер и имело смысл «осквернение», «порча».) Ланувин, как видно, был сторонником буквального перевода, но, не обладая достаточным дарованием, из хороших греческих пьес делал, по словам Теренция, плохие латинские («Евнух», 7-8). Это, впрочем, не мешало ему обвинять Теренция в нарушении единства его оригиналов. Отстаивая свои позиции, Теренций ссылается либо на близкое сходство между собой греческих прототипов («Девушка с Андроса», 8-14), либо на пример своих предшественников — Плавта, Невия, Энния, творивших «с вольной небрежностью» (там же, 18-21; «Самоистязатель», 20-21). Противники Теренция обвиняли его также в использовании греческих комедий, уже обработанных до него для римской сцены, — см. «Евнух», 23-29, хотя речь касалась только двух персонажей из комедии «Льстец», заимствованных Теренцием для «Евнуха». Сознавая, однако, что обращение римского поэта к греческим образцам, уже знакомым зрителям, может быть истолковано как свидетельство его творческой несостоятельности, Теренций однажды специально оговаривает, что взял в качестве образца греческую комедию, «никем не обработанную» («Самоистязатель», 7).