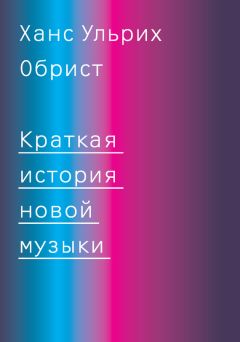Джованни Боккаччо - Декамерон. Гептамерон (сборник)
– Итак, благородные дамы, если вы достаточно благоразумны, вы непременно будете остерегаться нас, как олень, если бы у него был разум, всегда стал бы остерегаться охотника. Ведь вся наша слава, все наше счастье и наше удовлетворение собой зиждятся на том, чтобы овладеть вами и отнять у вас то, что самим вам дороже жизни.
– Что я слышу, Жебюрон, давно ли это вы сделались проповедником? – воскликнул Иркан. – Не вы ли утверждали всегда совершенно противоположные вещи?
– Вы правы, – ответил Жебюрон, – всю свою жизнь я думал иначе, но так как зубы мои стали теперь слабее и мне не разжевать ими лакомой дичи, я хочу всего-навсего предупредить бедных ланей, чтобы они остерегались охотников, и, может быть, этим мне удастся хоть на старости лет искупить те беды, которые я готов был им причинить в молодые годы.
– Спасибо, Жебюрон, за то, что вы заблаговременно нас об этом предупредили, – сказала Номерфида, – но мы не очень-то вам верим: вы ведь, верно, ни разу не обращались с подобными речами к тем, кого вы любили; это означает только, что у вас нет ни малейшего интереса к нам, и больше того – вы даже не хотите, чтобы кто-нибудь нас полюбил. А мы, однако, считаем себя такими же добродетельными и скромными, как те, за кем вы гонялись в дни вашей молодости. Но старики ведь привыкли думать, что они всегда умнее, чем поколение, которое идет им на смену.
– А скажите-ка, Номерфида, – воскликнул Жебюрон, – когда кто-нибудь из ваших поклонников обманет вас и заставит испытать на себе коварство мужчин, согласитесь вы тогда со мной или нет?
– Мне кажется, – сказала Уазиль, – что этого молодого дворянина, которого вы так расхваливали за его храбрость, следовало бы скорее похвалить за его неистовую любовь, а ведь это такая сила, что даже трусливейший из людей, если он одержим ею, способен совершить то, что заставит призадуматься самого отменного храбреца.
– Госпожа моя, – возразил ей Сафредан, – может быть, и в самом деле он испытал бы страх, если бы не считал, что от италь янцев можно ожидать каких угодно слов, но никак не дел.
– Нет, – ответила Уазиль, – он испугался бы, если бы в сердце его не горел тот огонь, который способен испепелить всякий страх.
– Коль скоро вы не считаете храбрость этого человека достой ной похвалы, – сказал Иркан, – вы, вероятно, знаете кого-нибудь другого, который ее более достоин.
– Я нахожу, что похвалу эту он вполне заслужил, – сказала Уазиль, – но я действительно знаю пример еще более удивительный.
– Если это так, – сказал Жебюрон, – умоляю вас, займите скорее мое место и расскажите нам эту историю.
– Коли вы так расхваливаете храбреца, который готов был кинуться на миланцев, защищая свою жизнь и честь своей дамы, – начала Уазиль, – то что же вы скажете о том, кто без всякой к тому нужды и единственно лишь из самой подлинной беззаветной храбрости совершил поступок, о котором я вам сейчас расскажу.
Новелла семнадцатая
Король Франциск, вместо того чтобы изгнать из своего королевства графа Вильгельма – про которого ходили слухи, что он подкуплен, чтобы отравить короля, – не показал виду, что в чем-либо его подозревает, и сумел сделать так, что тот сам покинул пределы страны
В городе Дижоне, в герцогстве Бургундском, на службу к королю Франциску поступил немецкий граф[182] из Саксонского рода, с которым род Савойский был тесно связан кровными узами, ибо некогда оба этих рода были одним. Молодой граф был человеком очень красивым и храбрым, и во Франции его приняли хорошо. Король не только взял его на службу, но даже до такой степени приблизил к себе, что тот стал постоянно пребывать в королевских покоях. Сеньор де ла Тремойль[183], губернатор Бургундии, который ранее был при дворе и долгие годы ревностно служил королю, оберегая безопасность своего повелителя и храня его от всякого зла, тщательно следил за всем, что творилось в его владениях, но делал это чрезвычайно искусно и осторожно. И вот среди прочих донесений сеньор этот получил письмо от одного из своих друзей, в котором тот уведомлял его, что графу Вильгельму вручили немалую сумму денег и обещали, что заплатят еще того больше, ежели ему удастся тем или иным способом умертвить короля. Сеньор де ла Тремойль не преминул тут же известить об этом своего господина, короля, не скрыв этого известия и от королевы-матери, Луизы Савойской, которая, хоть граф и приходился ей близким родственником, обратилась к королю с просьбой незамедлительно изгнать его из пределов Франции. Король же попросил свою мать никому не говорить о том, что она узнала, сказав, что не допускает мысли, чтобы человек столь благородный и честный был способен на подобное преступление. Но через некоторое время пришли другие сведения, которые только подтвердили все, что раньше было известно. И губернатор Бургундии, исполненный любви к своему господину, стал просить короля, чтобы тот разрешил ему изгнать графа или отдал сам об этом приказ. Однако король не велел ему ничего предпринимать, решив, что другим путем дознается правды. Однажды, отправившись на охоту, он взял лучшую из имевшихся у него шпаг и пригласил с собою графа Вильгельма, сказав ему, чтобы тот не отходил от него ни на шаг. Преследуя оленя, король удалился от остальной своей свиты и, оставшись вдвоем с графом, свернул с дороги и углубился в лес. И когда он убедился, что никого, кроме них двоих, там нет, он обнажил шпагу и спросил своего спутника:
– Ну, как вам нравится эта шпага? Хороша, не правда ли? Граф потрогал лезвие и ответил, что такой отличной шпаги ему никогда не доводилось видеть.
– Вы правы, – сказал король, – и мне кажется, что, если бы какой-либо дворянин решился убить меня и если бы знал, сколько силы в моей руке и мужества в моем сердце, да к тому же увидел, какое отличное у меня оружие, он подумал бы не раз, прежде чем на меня напасть. И все же он был бы самым последним трусом, если, оставшись со мною с глазу на глаз, он не решился бы привести свой замысел в исполнение.
На это граф Вильгельм с удивлением ответил:
– Ваше величество, человек этот был бы не только подлым злодеем, но к тому же еще и совершенным безумцем.
Король рассмеялся, вложил шпагу в ножны и, услыхав голоса охотников, пришпорил лошадь и поспешил присоединиться к ним. Вернувшись, он никому не стал рассказывать об их разговоре, сам же пришел к убеждению, что графу Вильгельму, несмотря на то что это человек на редкость крепкий и ловкий, столь трудное дело все же не по плечу. А граф, чувствуя, что замысел его раскрыт и его подозревают, пришел к Робертэ[184], королевскому казначею, и объявил ему, что, подсчитав, какое годовое жалованье ему назначил король, он видит, что этих денег ему не хватит и на полгода, – и, если королю не будет угодно положить ему вдвое больше, он вынужден будет оставить королевскую службу. И он попросил, чтобы Робертэ возможно скорее сообщил ему решение короля, сказав, что в случае его отказа он немедленно же уедет. Тот охотно взялся выполнить его просьбу, ибо уже знал о донесениях губернатора. И наутро, как только король проснулся, Робертэ изложил ему просьбу графа в присутствии де ла Тремойля и адмирала Бониве, которые ничего не знали о том, как хитро повел себя с ним накануне король. И, обращаясь к ним обоим, король рассмеялся и сказал:
– Вы предлагали изгнать из Франции графа Вильгельма, но вы видите – он сам себя изгоняет. Извольте же сказать ему, что, коль скоро он перестал быть довольным тем жалованьем, которое я ему плачу – а ведь он на это жалованье согласился, когда поступал ко мне на службу, и к тому же люди из самых знатных домов всегда им бывали довольны, – он, должно быть, задумал искать счастья где-нибудь в другом месте. И я не стану препятствовать ему в этом, а напротив – буду очень рад, если он найдет себе где-либо другую должность, такую, какой он заслуживает.
Робертэ незамедлительно сообщил графу о решении короля. Граф ответил, что теперь, с соизволения короля, он может покинуть страну. Страх, который он испытывал, подстегивал его; опасаясь за свою жизнь, он решил не откладывать свой отъ езд до следующего дня. Он явился к королю, как только тот сел обедать, и простился с ним, притворившись, что горько сожалеет о том, что ему приходится покидать французский двор. Точно так же простился он и с королевой-матерью, которая проводила его столь же приветливо, как и встретила – он ведь приходился ей близким родственником, – и после этого вернулся к себе на родину. А король, видя, что мать его и все придворные крайне изумлены столь поспешным отъездом графа, рассказал им, какой разговор у него с ним был на охоте, добавив к этому, что, если бы тот не чувствовал за собою никакой вины, страх его не был бы столь велик и он не покинул бы так стремительно своего государя, чей нрав он еще не успел узнать.