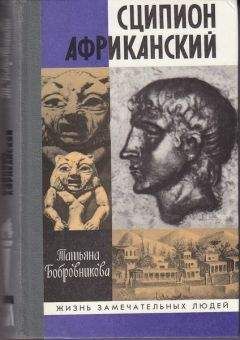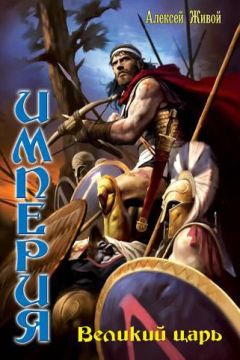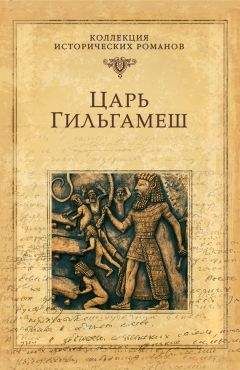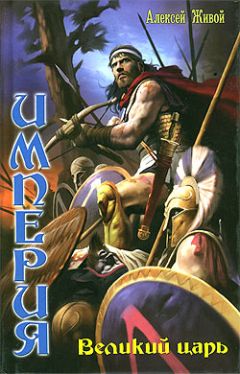Гомер - Илиада. Одиссея
Большинство современных ученых считает, что Гомер жил в VIII веке до н. э. в Ионии – на западном побережье Малой Азии или на одном из близлежащих островов. К тому времени аэды успели исчезнуть, и место их заняли декламаторы-рапсоды; они уже не пели, аккомпанируя себе на кифаре, а читали нараспев, и не только собственные произведения, но и чужие. Гомер был одним из них. Но Гомер не только наследник, он и новатор, не только итог, но и начало: в его поэмах лежат истоки духовной жизни всей античности в целом. Византиец Михаил Хониат (XII—XIII вв.) писал: «Подобно тому, как, по словам Гомера, все реки и потоки берут начало из Океана, так всякое словесное искусство исток имеет в Гомере».
Есть предположение, что «Илиада» и «Одиссея» действительно заключают многовековую традицию импровизационного творчества – что они были первыми образцами письменно закрепленного «большого эпоса», с самого начала были литературой в прямом смысле слова. Это не значит, разумеется, что известный нам текст поэм ничем не отличается от исходного, каким он был записан или «выговорен» в конце VIII или начале VII века до н. э. В нем немало позднейших вставок (интерполяций), в иных случаях весьма пространных, до целой песни; немало, вероятно, и сокращений-купюр, и стилистических поправок, которые следовало бы назвать искажениями. Но в таком «искаженном» виде он насчитывает почти две с половиной тысячи лет, в таком виде был известен древним и принят ими, и пытаться возвращать его к первоначальному состоянию не только невозможно по существу, но и бессмысленно с историко-культурной точки зрения.
«Илиада» повествует об одном эпизоде последнего, десятого, года Троянской войны – гневе Ахиллеса, самого могучего и храброго среди греческих героев, оскорбленного верховным предводителем ахейцев, микенским царем Агамемноном. Ахиллес отказывается участвовать в сражениях, троянцы начинают брать верх, гонят ахейцев до самого лагеря и едва не поджигают их корабли. Тогда Ахиллес разрешает вступить в битву своему любимому другу Патроклу. Патрокл погибает, и Ахиллес, отрекшись наконец от гнева, мстит за смерть друга, сразив Гектора, главного героя и защитника троянцев, сына их царя Приама. Все главное в сюжете поэмы – от мифов, от Троянского цикла. С тем же циклом связана и «Одиссея», рассказывающая о возвращении на родину после падения Трои другого греческого героя – царя острова Итаки Одиссея. Но здесь главное – не миф: оба основных сюжетных компонента «Одиссеи» – возвращение супруга к супруге после долгого отсутствия и удивительные приключения в дальних, заморских краях – восходят к сказке и народной новелле. Различие между обеими поэмами этим не ограничивается, оно заметно и в композиции, и в деталях повествования, и в деталях мироощущения. Уже сами древние не были уверены, принадлежат ли обе поэмы одному автору, немало сторонников такого взгляда и в новые времена. И все же более вероятным – хотя, строго говоря, точно таким же доказуемым – представляется обратное мнение: сходного между «Илиадой» и «Одиссеей» все же больше, чем отличного.
Несходство и прямые противоречия обнаруживаются не только между поэмами, но и внутри каждой из них. Они объясняются в первую очередь упомянутою выше многослойностью греческого эпоса: ведь в мире, который рисует Гомер, совмещены и соседствуют черты и приметы нескольких эпох – микенской, предгомеровской (дорийской), гомеровской в собственном смысле слова. И вот рядом с дорийским обрядом сожжения трупов – микенское захоронение в земле, рядом с микенским бронзовым оружием – дорийское железо, неведомое ахейцам, рядом с микенскими самодержцами – безвластные дорийские цари, цари лишь по имени, а по сути родовые старейшины… В прошлом веке эти противоречия привели науку к тому, что под сомнение было поставлено само существование Гомера. Высказывалась мысль, что гомеровские поэмы возникли спонтанно, то есть сами собой, что это результат коллективного творчества – вроде народной песни. Критики менее решительные признавали, что Гомер все-таки существовал, но отводили ему сравнительно скромную роль редактора, или, точнее, компилятора, который умело свел воедино небольшие по размеру поэмы, принадлежавшие разным авторам, или, может быть, народные. Третьи, напротив, признавали за Гомером авторские права на большую часть текста, но художественную цельность и совершенство «Илиады» и «Одиссеи» относили на счет какого-то редактора более поздней эпохи.
Ученые неутомимо вскрывали все новые противоречия (нередко они бывали плодом ученого воображения или ученой придирчивости) и готовы были платить любую цену, лишь бы от них избавиться. Цена, однако же, оказалась слишком высока: выдумкою, фикцией обернулся не только Гомер, но и достоинства «мнимых» его творений, разодранных на клочки беспощадными перьями аналитиков (так называют ниспровергателей «единого Гомера»). Это было явной нелепостью, и в течение последних пятидесяти лет верх взяла противоположная точка зрения – унитарная. Для унитариев неоспоримо художественное единство гомеровского наследия, ощущаемое непосредственно любым непредвзятым читателем. Их цель – подкрепить это ощущение с помощью особого «анализа изнутри», анализа тех правил и законов, которые, сколько можно судить, ставил себе сам поэт, тех приемов, из которых складывается поэзия Гомера, того мироощущения, которое лежит в ее основе. Итак, взглянем на Гомера глазами непредвзятого читателя.
Прежде всего нас озадачит и привлечет сходство, близость древнего к современному. Гомер сразу же захватывает и сразу из предмета изучения становится частью нашего «я», как становится всякий любимый поэт, мертвый или живой – безразлично, потому что основным для нас будет эмоциональный отзыв, эстетическое переживание.
Читая Гомера, убеждаешься, что многое в его взгляде на мир – не только вечная и непреходящая истина, но и прямой вызов всем последующим векам. Важнейшее, что отличает этот взгляд, – его широта, желание понять разные точки зрения, терпимость, как сказали бы сегодня. Автор героического эпоса греков не питает ненависти к троянцам, бесспорным виновникам несправедливой войны (ведь это их царевич Парис нанес обиду людям и оскорбил божеский закон, похитив Елену, супругу своего гостеприимца, спартанского царя Meнелая); скажем более – он уважает их, он им сочувствует, потому что и у них нет иного выбора, как сражаться, защищая свой город, жен, детей и собственную жизнь, и потому, что они сражаются мужественно, хотя ахейцы и сильнее и многочисленнее. Они обречены; правда, сами они еще не знают этого, но Гомер-то знает исход войны и, великодушный победитель, сострадает будущим побежденным. И если, по словам самого поэта, «святая Троя» ненавистна богам «за вину Приамида Париса», то Гомер выше и благороднее богов-олимпийцев.
Широта взгляда вдохновляется добротою, человечностью. Едва ли случайно, что европейскую литературу открывает призыв к доброте и осуждение жестокости. Справедливость, которую обязаны блюсти люди и охранять боги, – во взаимной любви, кротости, приветливости, благодушии; беззаконие – в свирепстве, в бессердечии. Даже Ахиллесу, образцовому своему герою, не прощает Гомер «львиного свирепства», и поныне это не прописное проклятие прописному пороку, а живой опыт, за который люди на протяжении своей истории платили так много и всякий раз сызнова. Человечность Гомера столь велика, что одерживает верх даже над неотъемлемыми признаками жанра: обычно героический эпос – это песнь войне, как испытанию, обнаруживающему лучшие силы души, и Гомер в самом деле прославляет войну, но он уже и проклинает ее бедствия, ее безобразие, бесстыдное надругательство над человеческим достоинством. Первое, видимо, идет от примитивной морали варваров-дорийцев, второе – от новой морали законности и мира. Ей предстояло подчинить себе вселенную, и по сию пору нельзя еще сказать, чтобы эта задача была решена. Вот где Гомер встречается с Шекспиром, а мы – с тем и другим, вот что нам Гекуба! Мы отлично понимаем ужас старого Приама, заранее оплакивающего свою уродливую и бесславную гибель:
О, юноше славно.
Как ни лежит он, упавший в бою и растерзанный медью, —
Все у него и у мертвого, что ни открыто, прекрасно!
Если ж седую браду и седую главу человека,
Ежели стыд у старца убитого псы оскверняют, —
Участи более горестной нет человекам несчастным!
И нисколько не меньше, не хуже понятен нам яростный шекспировский протест против судьбы, позволившей этому совершиться:
Стыдись, Фортуна! Дайте ей отставку,
О боги, отымите колесо.
Разбейте обод, выломайте спицы
И ось его скатите с облаков
В кромешный ад! [Перевод Б. Пастернака]
Унижение человека несправедливостью, насилием – это позор и мука для каждого из людей; свой наглый вызов злодейство бросает всему миропорядку, и, стало быть, каждому из нас, и, стало быть, каждый в ответе за злодейство. Гомер это предчувствовал, Шекспир ясно понимал.