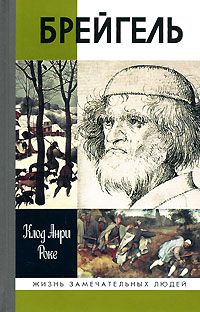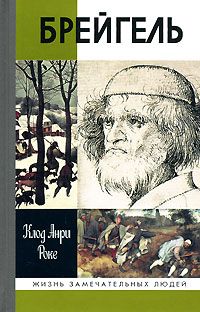Луи Повель - Мсье Гурджиев
Вы видите, любовь моя, вопрос остается прежним: «Кто я?» И до тех пор, пока не найдешь на него ответа, не научишься властвовать собой. Что такое мое «Я»? Нужно это понять, чтобы твердо стоять на ногах. Я ни на йоту не верю, что эти вопросы можно разрешить только с помощью разума. Во всем виновата наша жизнь, где все определяет ум, интеллект, развитый за счет всего остального. Разве спасение только в одном интеллекте? Я не вижу другого выхода, кроме поисков гармонии между чувствами, инстинктами и разумом.
Знаете, Богги, если бы мне было позволено обратиться к Господу всего с одной мольбой, я бы воскликнула: «Хочу быть подлинной!» До тех пор, пока не удастся достигнуть этого, я вечно буду оставаться лишь женщиной, «старушкой Евой», вечно буду зависеть от всего, с чем это связано.
Но мое пребывание здесь уже показало, сколь мало было во мне этого «подлинного». Что-то чужеродное отторглось от меня, что-то такое, что никогда не принадлежало моему подлинному «я», и теперь я знаю одно: я не уничтожена, я преисполнена надежды и веры. Но все это так трудно объяснить, а я всегда боюсь Вам наскучить.
Вчера получила новости от Бретт. Она рассказывает ужасные вещи о Салливане, о том, каким он стал, о его отношении к жизни, к женщинам. Не знаю, насколько правдива описываемая ею картина, но от Салливаиа этого можно было ожидать. Жаль только, что жизнь так коротка, а мы разбазариваем ее направо и налево. Мне по-прежнему кажется, что Салливан не хочет себе признаться в том, что он разбазаривает свою жизнь. Иногда думаешь, что он и себе в этом никогда не признается. И жизнь пройдет как сон, полная иллюзорного самоуспокоения.
Наше хозяйство пополнилось двумя козочками, они неразлучны. Козы очень красивы лежат ли они на соломе или грациозно пританцовывают, пытаясь бодаться. Вчера, когда я там была, пришел Гурджиев; Лола и Нина доили коров, а он им показал, как доят козу. Усевшись на табурет, он поймал козу, перекинул ее задние ноги себе через колени, так что коза оказалась беспомощно стоящей на передних ногах. Так делают арабы. В это время он сам был похож па араба. Перед этим я беседовала с человеком, увлеченным астрологией, который нарисовал знаки Зодиака над входом в стойло. После чего мы поднялись ко мне на помост и пили кумыс.
До свидания, дорогой. Я чувствую, что письмо получилось скучным и занудным. Простите.
Всегда любящая Вас Виг
Воскресенье, 31 декабря 1922г.
Дорогой Богги!
Я потеряла ручку и, так как очень спешу, схватила карандаш; Вы уж извините.
Не согласились бы Вы приехать сюда числа восьмого или девятого января и пробыть до четырнадцатого или пятнадцатого? Гурджиев одобряет мой план, он хочет, чтобы Вы были его гостем. Наш новый театр должен открыться тринадцатого. Это будет нечто необыкновенное. Не хочу пока вдаваться в подробности. На тот случай, если Вы решите приехать, скажу, какую одежду надо взять с собой.
Спортивный костюм, толстые ботинки, носки, плащ. Шляпу, которой уже ничего не страшно. «Чистый» костюм с мягким воротником или таким, как Вы обычно носите; гал- стук (Вы ведь мой муж, мне хочется, чтобы у Вас был приличный вид), домашние туфли и пр. Этого достаточно. Если у Вас есть шерстяной жилет, то прихватите и его, а заодно и фланелевые брюки, на случай, если Вы промокнете и захотите переодеться.
Я черкну Бретт, попрошу ее купить мне пару обуви фирмы Леви. Захватите? Может быть, она купит мне еще и куртку, а потом передаст Вам сверток. Телеграфируйте о вашем решении. Только «да» или «нет». И если «да», то сообщите дату Вашего приезда. Есть поезд, который прибывает в ; Париж в четыре с чем-то. Вы могли бы приехать в Фонтенбло в тот же вечер. Если не получится, лучше провести ночь в Париже, так как к последнему поезду такси не подают.
Вы выйдете из поезда в Авоне, возьмете машину, которая обойдется Вам в восемь франков, включая чаевые. Позвоните в привратницкой, и я открою вам калитку.
Надеюсь, что Вы приедете, милый. Сообщите об этом как можно скорее, ладно?
Обещала быть жена Чехова. Кроме того, я снова поселилась в своей большой красивой комнате, так что места нам хватит. А не понравится устроимся в коровнике и будем пить там кумыс.
Ни о чем другом писать в этом письме не могу. Надеюсь побыстрее получить от Вас ответ.
Всегда любящая Вас Виг
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Кэтрин приукрасила реальность. Рождественская ночь: на сцену выходит смерть. Джон в Аббатстве. Джон спешно женится снова. Гурджиев заявляет, что никогда не знал Кэтрин. Последний вопрос.
ТАКОВО последнее письмо Кэтрин. Она зовет мужа. Еще несколько недель назад она просила его погодить до лета: «Я пока не могу разделить с Вами жизнь». Она еще не достигла такой внутренней цельности, которая позволила бы ей обновить свои отношения с любимым человеком, причаститься «сознательной любви». Ей нужно было дойти до крайней степени одиночества, чтобы почувствовать, что ее «я» становится чем-то постоянным, сильным, свободным и сверкающим. Только тогда ее любовь к Джону могла бы стать постоянной, сильной, свободной и сверкающей страстью. А пока все еще существовал риск обмана и мелочности, отравляющих отношения людей, являющихся рабами своих настроений и внешних обстоятельств. Это была угроза прежней «прогнившей любви» в «прежних обстоятельствах». Следовало завершить процесс самосовершенствования. На самом деле любовь слишком серьезная вещь, чтобы под предлогом «удовольствия», «желания снова увидеться» соединиться прежде, чем в тебе самой не появится твердая основа. Кроме того, следовало дождаться момента, когда не нужно будет больше прикрывать правду потоком слов, написанных розовыми чернилами. До сих пор Кэтрин все приукрашивала. Судя по ее письмам, она чувствовала себя не так уж плохо, в то время как туберкулез прогрессировал гигантскими шагами, и она это понимала. Но Кэтрин приняла решение не заботиться больше о своем теле, как заботилась бы о нем обычная женщина, которую лечат обычные врачи. «Если я спасу свою душу спасу и свое тело». Вполне нормально то, что в первое время, посвященное осознанию своего внутреннего ничтожества и работе по обретению духовного «я», наше тело стремится к смерти. По этому поводу не стоит волноваться. Это лишь первый этап. Произойдет духовный переворот, но сначала нужно, чтобы та иллюзорная личность, которую мы принимали за подлинную, была разрушена и исчезла. Наша телесная оболочка выдает то, что происходит внутри. Если это пугает нас, если мы спешим вернуться на старые позиции, к прежней жизни, какими же трусливыми мы оказываемся, какое поражение терпим при первом же испытании! Кэтрин ничего не говорит, или, вернее, движимая нежностью и состраданием к Джону Мидлтону Мурри, притворяется не слишком больной, чтобы не волновать его, чтобы он спокойно мог думать о завтрашней Кэтрин. Ибо он не мог бы думать о Кэтрин сегодняшней, корчащейся и покрытой потом, не ставя под вопрос сам факт их взаимной любви.
Она приукрашивает и другие вещи. Его любовь к ней, или, вернее, все, что осталось от этой любви, связано с ее писательством. Так пусть же он не беспокоится! Завтра она начнет писать. Завтра она вступит на путь литературного творчества куда более глубокого и плодотворного, чем прежде. Но на самом деле она уже поняла, что писательство дело смехотворное. Писать как прежде значит отождествлять себя с предметами и людьми, то есть усиливать свою зависимость от внешнего мира, упиваться обманами субъективного сознания, которое не имеет ничего общего с сознанием истинным. Нет, писать больше невозможно, все «литературные» произведения достойны презрения. «Субъективное искусство это дерьмо», как говорил Гурджиев. Таким образом, то, что составляло суть ее жизни, что было ее последней гордостью, служило убежищем и утешением, было теперь у нее отнято. Сама она примирилась с этой утратой, но тешила Джона иллюзиями, будто ее пребывание в Аббатстве должно было придать глубину и размах ее таланту, который он так ценил.
Она умалчивала и о другом, более серьезном. Об «отказе от самой себя», который был краеугольным камнем всей доктрины Гурджиева и который она пыталась осуществить в меру тех физических сил, что у нее еще оставались. Она умалчивала об этой работе, поскольку придавала трагическую окраску каждому часу, проведенному у Гурджиева, а муж ее не переносил ничего трагического. Молчала она еще и потому, что, если бы сказала правду, ей пришлось бы признать ложной, иллюзорной, губительной их прежнюю жизнь и внутренне осудить духовное, интеллектуальное и эмоциональное отношение к жизни Джона Мурри, которому в это время, как ей казалось, так нужна была вера в себя и в то, что Кэтрин в Аббатстве лишь готовится к счастливому возвращению к их прежней жизни, обогащенной красочными воспоминаниями и «оригинальными идеями» о духовности. Она ничего не говорила о тех внутренних усилиях, которые совершала, следуя указаниям Гурджиева. Напротив, рассказывая, как с нежностью и интересом всматривается в людей, предметы и пейзажи, окружающие ее, она изо всех сил старалась в своих письмах притвориться прежней Кэтрин. Описание ее жизни в Аббатстве напоминает пребывание в несколько странном семейном пансионе, среди людей чуть более вдумчивых и с чуть более богатой внутренней жизнью, чем в любом таком заведении. Целью всего этого было успокоить Джона, внушить ему еще на какое-то время, что ничего не изменилось ни в ней, ни в их отношениях. Достаточно было того, что она сама по десять раз на дню задавала себе сотни вопросов. У нее уже не хватило бы сил ответить на те вопросы, которые он, с его пытливым умом и постоянной расположенностью к панике, мог бы задать ей, если бы она позволила себе сказать ему всю правду о своей жизни в Аббатстве, о тех принципах, которые вынудили ее выбрать именно эту жизнь, и о том, чего она от нее ждала.