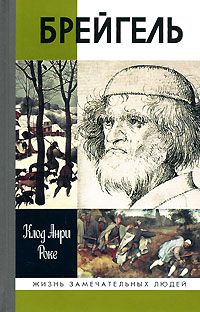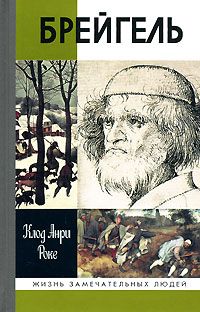Луи Повель - Мсье Гурджиев
Я страшно занята. Чем именно? Во-первых, изучаю русский, что само по себе чрезвычайно трудно, потом на мне уход за гвоздиками в доме тоже не простое дело, остальное время дня я провожу, наблюдая за людьми, занятыми различным трудом. А каждый вечер около полусотни человек собираются в гостиной: они музицируют, сейчас, например, разучивают восхитительный танец в древнеассирийском стиле. У меня нет слов, чтобы все это описать. Но когда видишь это собственными глазами, испытываешь сильнейшее потрясение.
До того как я сюда попала, не сомневалась в том, что во мне живет лишь мельчайшая частица моего «я». Я была маленькой европейкой, питавшей определенный интерес к восточным коврам, музыке и всему тому, что я смутно понимала под Востоком. Но сейчас чувствую, что в гораздо большей степени поворачиваюсь к нему лицом. Запад кажется таким обедненным, таким распыленным. Я больше не верю, что мудрость и знание здесь. Конечно, это только фаза в моем развитии. Я говорю Вам об этом, потому что обещала описывать все свои впечатления. Прожив здесь всего три недели, я чувствую себя так, будто провела годы в Индии, Аравии, Афганистане, Персии. Не правда ли, это очень странно? Как необходимо мне было такое путешествие! Какой ограниченной я была прежде! Только теперь пришло осознание.
Есть здесь и другое дружба. Это та реальность, о которой мечтали мы оба и Вы, и я. Здесь она присутствует как в отношениях между женщинами, так и в отношениях между мужчинами и женщинами. Чувство это нерушимо и переживается так, как было бы невозможно нигде. Не могу сказать, что я уже завела здесь друзей. Дело в том, что сейчас я не готова к дружбе, недостаточно хорошо знаю себя, чтобы ко мне испытывали доверие, да к тому же слаба в тех областях, в которых эти люди сильны. Но даже те отношения, которые у меня сложились, мне дороже всех предшествующих дружеских связей.
У Вас может создаться впечатление, что все мы живем в атмосфере дружеской близости, счастья и радости. Но это совсем не так. Все мы ужасно страдаем. Если человек был болен в течение пяти лет, его не вылечишь за пять недель. Когда болеешь в течение двадцати лет (а, по мнению Гурджиева, у каждого из нас своя «болезнь»), следует применять самые строгие меры, чтобы достичь выздоровления. Но главное есть надежда. Начинаешь верить, что можно вырваться из порочного круга, вести сознательную жизнь. Можно благодаря работе избежать фальши и быть правдивым с самим собой, а не с тем персонажем, которого из вас делает первый попавшийся человек.
Мне хотелось бы, чтобы Вы познакомились с некоторыми из живущих здесь людей. Вы бы их оцепили, особенно мистера Зальцмана, который весьма скуп на слова. Пора кончать это письмо. Оно абсолютно невразумительное?
Не знаю, дорогой, что Вы имеете в виду, воображая меня в виде ангела, вооруженного шпагой. Я себя вовсе так не ощущаю. Дело, совсем, в другом. Вы говорите, что не можете быть по-настоящему счастливым, только радуясь моему счастью. Этого ни с кем не бывает. Все это лишь слова, Вы не согласны? Вроде тех, когда люди говорят, что живут лишь своими детьми. Такое, конечно, можно допустить, но все-таки это не жизнь. Точно так же я не могу научить Вас жить. Вы это Вы, а я это я. Мы только можем соединить свои жизни, вот и все. Но, возможно, я слишком серьезно отношусь к вашим словам.
Пока до свидания, дорогой.
Всегда Ваша Виг
Прилагаю билет в пять фунтов. Оплатите, пожалуйста, счет Хила, а остальное оставьте для оплаты возможных счетов, ко-торые я, может быть, пришлю Вам позже. Я уверена, что они появятся. Если Вы знаете кого-нибудь, кто собирается в Париж, передайте две пары серых миланских носков (пятого размера), чтобы мне переслали их по почте. Они мне здесь очень нужны. Заранее благодарю.
12 ноября 1922 г.
Дорогой Богги!
Вы пишете, что у Вас ощущение, будто жизнь возникает тогда, когда Вы покидаете Ваш рабочий кабинет, и снова исчезает, когда Вы туда возвращаетесь. Мне очень жаль Вас. Не тягостно ли Вам закрывать эту дверь, садиться за этот стол? Наверное, чувствуете себя как паук в пустом доме. Для кого эта паутина? Зачем ткать ее, ткать без остановки? Должна признаться, что, проведя здесь всего, пять недель, я ощутила нечто, о чем мне не терпится написать. Если бы Вы только знали, насколько не терпится. Так что я скоро напишу об этом. Сейчас еще ничего не готово. Надо подождать, пока дом заполнится. Должна признаться, что практикующиеся здесь танцы заставили меня подойти совсем по-новому к тому, о чем я хочу написать. Некоторые из этих восточных танцев дышат глубокой древностью. Есть среди них один, длящийся всего около семи минут, но в нем отражена вся жизнь женщины, абсолютно вся! Ничего не пропущено. Мне это дало гораздо больше, чем можно узнать о жизни женщины из любой книги или поэмы. В этом танце нашлось даже место и для «Простой души» Флобера, и для княжны Марьи… Это потрясающе.
У меня была длинная беседа о Шекспире с человеком по имени Зальцман, по профессии он художник. Зальцман знает и понимает театр лучше, чем кто-либо из моих близких, не считая, разумеется, Вас. К тому же оказалось, что он большой Друг Ольги Книппер[19]. Его жена здесь главная танцовщица, это очень красивая и необыкновенно умная женщина. Дорогой, я вовсе не «загипнотизирована». Но у меня действительно создалось впечатление, что здесь есть люди, которые ушли гораздо дальше, чем все, кого я встречала прежде. Это личности совершенно другого масштаба. Большинство из находящихся здесь англичанок даже не замечают этого. Но я уверена. Раньше мне казалось, что я никогда не смогла бы перенести большого скопления женщин. Теперь же они мне гораздо ближе, я испытываю к ним симпатию.
Но о Гурджиеве не могу сказать, что он близок мне или что я его обожаю. Он просто воплощение здешней жизни, хотя и соблюдает дистанцию.
Со времени моего последнего письма я сменила комнату. Теперь нахожусь в другом крыле и веду совсем другую жизнь. Вместо абсолютного спокойствия все здесь шум и переполох. Прежняя моя комната была воплощением роскоши. Эта же маленькая, обычная, очень скромная. Мы с Ольгой Ивановной все устроили, она повесила сушиться над огнем свои желтые чулки для танцев, мы вместе сели на кровать и вдруг почувствовали себя совсем молоденькими девушками, очень бедными… совсем другими существами. Мне нравится эта новая обстановка. Надеюсь, Гурджиев не заставит меня в ближайшее время переезжать еще куда-нибудь. Но, как правило, он любит все в доме переворачивать вверх дном, что вполне можно понять, когда видишь, какие эмоции это вызывает.
По поводу моих чулок, милый. Сегодня я получила новости от Иды; она пишет, что завтра уезжает в Америку и хотела бы Вас навестить. Потом она собирается вернуться во Францию и поработать на ферме. Не могли бы Вы передать с ней чулки? Я скажу ей, чтобы она Вам написала. Об Иде я вспоминаю, только когда получаю ее письма. Бедная Ида! Когда я думаю о ней, мне становится очень ее жалко.
Пора кончать это письмо, дорогой. Я писала его на ручке кресла, на подушке, на кровати, пытаясь спрятаться от пышущего огня моего камина. А мне столько еще предстоит сегодня сделать! Дни идут, это ужасно. Сегодня утром я приняла, наконец, ванну впервые с тех пор, как покинула Англию! Хорошенькое признание! Но то, что можно сделать с помощью тазика и жесткой мочалки, просто восхитительно.
Прочитали ли Вы последний роман Элизабет? Что Вы о нем думаете? Расскажите мне об этом, пожалуйста. Как Ваше садоводство? Научились ли Вы водить машину?
До свидания, любимый.
Всегда Ваша Виг
Воскресенье, 19 ноября 1922 г.,
половина седьмого
Мой дорогой Богги!
Я страшно рада, что у Вас теперь есть маленькая квартирка. Пошарьте там у меня и устройтесь поуютнее. Берите все, что Вам вздумается. Но достаточно ли у Вас тепло? И как с едой? Я просила Иду купить кое-что в Англии и привезти мне в Париж. В настоящий момент у меня нет при себе чековой книжки. Не могли бы Вы послать ей чек в десять фунтов от моего имени? Я вам верну деньги через пару недель. Было бы мило с Вашей стороны послать их ей прямо сейчас, потому что в Англии она пробудет совсем недолго. Огромное спасибо, милый.
У нас сейчас очень холодно, совсем как в Швейцарии. Но это не так важно. Просто нет времени об этом думать. Здесь все время что-то происходит, и люди оказывают друг другу поддержку. Вчера я провела все послеобеденное время за чисткой моркови огромного количества моркови. И за работой вдруг вспомнила о своей постели, в уголке той комнатки «Домика в сосновом бору»… Какая огромная разница между одиночеством, изоляцией и тем, что я переживаю теперь! Люди то вбегают на кухню, то выбегают оттуда. Всеобщее восхищение вызывают окорока первой забитой здесь свиньи, разложенные на столе. В духовке поджаривается кофе. Проходит Баркер, погромыхивая ведром с молоком. Должна Вам сказать, дорогой, что моя любовь к коровам по-прежнему сильна. У нас их сейчас три. Они настоящие красавицы огромные, с короткой курчавой щетиной (а может быть, мехом или шерстью) между рогами. А еще у нас появились гуси. Они кажутся очень умными. Животные все больше и больше требуют моего внимания, за ними надо не только наблюдать, но и ухаживать с определенной сноровкой. Почему люди живут так далеко от всего этого? Позже у нас должны появиться пчелы. Я твердо решила узнать как можно больше о пчелах. Ваша идея купить клочок земли и построить там маленький домик кажется мне, дорогой, слегка преждевременной. Вы так мало в этом смыслите. Вы никогда не пробовали заниматься подобной работой. Не так легко сменить умственный труд на тяжелый физический. Но то, что Вы пишете, позволяет надеяться, что Вы прониклись моими «идеями» — моим желанием научиться «по-настоящему работать», вести сознательную, человеческую жизнь. Безусловно, нет другого места на земле, где бы можно было научиться тому, чему учишься здесь. Но жизнь здесь совсем не легкая. У нас есть большие трудности, тяжелые минуты, и Гурджиев работает с нами так, как мы хотели бы работать сами, но слишком этого боимся. Вот так-то. В теории все прекрасно, а на практике приходится туговато.