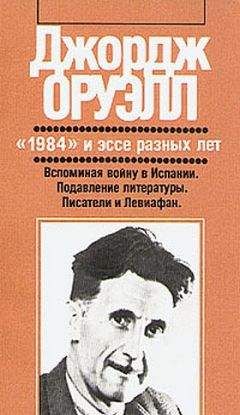Маруся Светлова - Мысль творит реальность
– Ты что, с ума сошла? Чего тебе еще надо? Мужик как мужик, не лучше и не хуже других! Хорошо, что такой есть. Стерпится – слюбится. Мало ли чего ты хочешь!..
И подруги, все как одна, твердили:
– Ты что, совсем сбрендила – от такого мужика отказываешься? Он у тебя не курит, и не пьет почти, и деньги домой несет, чего тебе еще надо? С жиру бесишься?
А она в ответ только головой крутила несогласно и готова сказать была, что ей много чего надо. Ей надо любить, и чтобы ее любили, и чтобы она это чувствовала. Чтобы любовь была явной, видимой, чтобы это главным было для них, а не то, что он деньги в дом приносит.
И она пыталась было об этом говорить, но, казалось, никто ее не слышит, не понимает. Любовь какая-то, чувства какие-то – напридумывала себе!
– Живи проще! – говорили ей. – Спустись на землю.
А ей совсем не хотелось на нее спускаться, она хотела высоты, хотела парить, радоваться, хотела, чтобы рядом был такой же человек – высокий, парящий. Но все чаще и чаще после разговоров с подругами, с родней чувствовала себя действительно приземленной, но – правильной, такой, как, наверное, и нужно было быть. Какими были все вокруг нее.
И еще совсем недавно уверенная в том, что правильно, честно уйти от мужа, быть одной, искать свою любовь, как-то незаметно для себя она стала эти правила менять.
И все чаще, глядя на мужа трезвым, холодным взглядом, думала:
«И правда, мужик как мужик. Чего мне еще надо…»
«Да ладно, стерпится – слюбится…»
…Одно поколение рассказывало другому поколению правила: что можно, что нельзя, какими быть, как жить, что делать, что не делать, что прилично, что неприлично. Все правила сводились к одному: быть как все и не быть собой.
Быть собой, таким, какой ты есть, означало быть другим, особенным, уникальным, а это было опасно для кубиков – одинаковых, похожих один на другой. Так и до свободы можно было докатиться – свободы быть собой, жить своей жизнью, делать то, что хочешь делать, и не делать того, чего не хочешь. Так можно было и до вседозволенности докатиться – этого уже было просто невозможно допустить!
И одно поколение пугало другое поколение страшной вседозволенностью, мол, ты представляешь, что будет, если разрешить каждому делать то, что он хочет? Это что же тогда произойдет?!
И запуганные страшной перспективой, забывали они, что изначально были наполнены Божьим светом, Божьей любовью, были Божьими душами. Разреши они себе быть собой и жить своей жизнью, делать то, что хочется, и не делать того, чего не хочется, руководствовались бы чистой своей Божественной душой – разве могла бы она плохое им посоветовать, к плохому их привести?!
Если бы только слушали они ее и поступали исходя из нее, жили бы истинно своей жизнью, идя в пути своем истинном!
Но так крепко одни кубики вбивали в голову другим кубикам, что они настоящие – плохие, что только дай им волю, они такого натворят, что начисто лишали их естественного желания проявлять себя настоящих. Храмы, построенные кубиками, чтобы держать под контролем других кубиков, еще глубже загоняли их в темные ячейки ограниченности и вины, мол, грешен ты изначально, раб Божий, и никогда тебе не быть другим. Ни слова не было в их проповедях о свободе, о Божественной сущности каждого, о том, что в каждом живет Бог, что смысл-то всей жизни – проявить Его, позволить Ему течь. Проявить себя тем, кто ты есть в действительности, – созданной по образу и подобию Божьему прекрасной сущностью, совершенной по природе.
И количество кубиков росло…
Под давлением кубиков, под их контролем и требованием соблюдать нормы, правила их рамочной жизни шарики теряли свою округлость, становились жесткими, правильными, чинными – и мертвыми.
И смотрел Бог с высоты на этот рамочный, правильный и мертвый мир и понять не мог, как, почему его высочайшую Божью волю – любить, быть любовью – так жестоко разрушали люди?
Почему его Высшую волю, данную человеку – быть свободным, быть собой, – загоняли в мелкие рамки и правила?
Недоумевал Он и поражался, как из свободы этой воли, из потоков любви, которую вкладывал Он в каждого человека, творя его изначально свободным и круглым шариком, полным света и любви, формировался мелкий, маленький кубик, занимающий свое место в отведенной ему мелкой ячейке.
И казалось Ему иногда, что мир этот, кубический, ограниченный, уже ничто не может поколебать, разрушить. Что планета, созданная Им круглой, гармоничной, застроенная их квадратными и прямоугольными ячейками, скоро форму свою потеряет, и в этом волю Его нарушив.
Казалось Ему иногда, что не будет сладу с кубиками.
Но шарики, все же еще существующие шарики, давали Ему надежду.
Потому что одним только существованием своим разрушали этот рамочный мир.
Потому что шарики – свободные, легкие и радостные в парении своем, в свободе быть собой, петь свои песни, смеяться, когда хочется смеяться, любить, радоваться жизни, живущие не по правилам, а по сердцу, – были столь притягательны, так завораживали, что сбивали кубиков с их ритмичного шага, а иногда и с ног.
Когда пролетал мимо такой шарик в свободном парении, останавливались кубики, задирали головы вверх, чтобы следить за ним, другим, за его яркостью, непохожестью.
Останавливали движение своих рамочных машин, чтобы с удивлением рассматривать их: пару велосипедистов с рюкзаками на плечах, свободных двигаться куда угодно, вне дорог и перекрестков, девочку с дредами на голове в ярких гольфах среди серой толпы, музыканта, играющего на гитаре на улице, погруженного в свою музыку, выделяющегося своим одухотворенным лицом среди мертвых правильных лиц.
Живость этих людей, их свобода быть собой, выражать себя, не соответствовать никаким рамкам и правилам были как удар под дых, как мгновенное возвращение в себя, в того себя, каким ты когда-то был на самом деле – свободным, радостным и легким. Собой.
Свобода других разрушала их клетки. Отзывалась в них их спрятанной свободой. И та вырывалась наружу, отбрасывая рамки и ограничения. Кубик становился шариком. Хоть на время, хоть на мгновение – но шариком.
А еще – любовь вырывала их из клеток.
Любовь вырывала их из ячеек. Потому что любовь – позволение любить, любить всем сердцем, без границ ума и чужих правил – была наивысшей свободой. Если встречался кубик с таким шариком, свободным любить ярко, сильно, куда было деваться кубику? Как не вырваться на свободу?!
Многие кубики, испуганные непривычной, без рамок, свободой чувств, пытались затолкать себя обратно, вернуться в рамки своих привычек, выстроенной, нормальной жизни. Пытались затолкать любовь в рамки правил, приличий, долга, обязанностей.
Но разве можно любовь, Божье проявление, куда-то затолкать? В чем-то закрыть?
И снова любовь вырывала их из привычных, ограниченных, рамочных жизней, и они становились свободными, легкими, парящими – самими собой, проживали минуты, часы или дни счастья, истинной жизни, жизни легкого Божественного шарика.
…Он любил ее. Он чувствовал. Он знал. Он был в ней. Мыслями своими, чувствами он весь был в ней – в ее улыбке, в запахе ее волос. И все, чего хотел он, – это быть с ней, жить с ней, просыпаться рядом с ней.
Но жена, глядя на него жестким, нелюбящим, даже враждебным взглядом, говорила:
– Я все равно не дам тебе уйти из семьи. Я тебе всю жизнь испорчу. Я тебе с ребенком видеться не дам. Я всю карьеру твою поломаю…
И теряя под жестким этим напором все свои чувства и желания, он говорил только:
– Зачем? Зачем тебе нужно меня удерживать? Ты же не любишь меня. И не любила никогда. Ты сама говорила, что выбрала меня из нескольких претендентов как самого делового, надежного. Ты себе мужа выбирала как делового партнера. Но даже партнерство у нас не получилось…
– Это ничего не значит, – мертвым голосом отвечала жена. – Меня вполне все устраивает. У меня должен быть муж, а у ребенка – отец. И я не собираюсь выступать перед людьми в роли брошенки, – говорила она с ненавистью в голосе.
– Но зачем нам быть вместе? Просто ради приличия? Зачем ребенку видеть эту ложь? Разве это правильно, разве хорошо?! Я всегда буду любить его, буду рядом с ним и всегда вас поддержу. Мы можем договориться жить по-другому…
Но она, как робот, жестко и ненавидяще отвечала:
– У нас семья, как у людей. Ты мой муж. И я не дам тебе ломать семью…
И он опять терялся, не зная, как объяснить ей, что семья – это, прежде всего, любовь, уважение друг к другу, желание быть вместе, жить вместе. И если это потеряно, осталась только ложь…
Но правила лишали его слов. И он думал обреченно: «Что поделаешь, я женат, не суждено мне быть с любимой…» И сам не замечал, что слово «женат» звучало как приговор, как ярмо.
И друзья его, жившие такой же жизнью, в которой не было любви, говорили:
– Эк чего захотел?! Любовь ему нужна! Любовницу заведи помоложе – и будет тебе любовь! Делай, как нормальные люди делают…