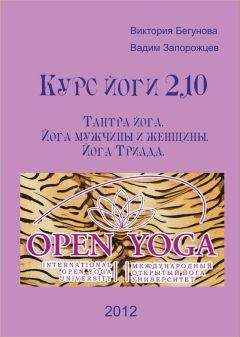Сатпрем - НА ПУТИ К СВЕРХЧЕЛОВЕЧЕСТВУ: Очерки экспериментальной эволюции
VI. Стирание границ
Мы отправились на поиски своего настоящего я во всей этой внутренней и внешней механике, мы так нуждаемся в чем–то, что не было бы этой генетической суммой, этой узаконенной фикцией, этим жизнеописанием, которое подобно описанию смерти, этой суммой действий и жестов, добавляющихся к нулю или в извечной надежде неизвестно на что, этим гребнем существования, который постоянно убегает под нашими ногами и тянется туда, к другой волне, которая является только более или менее удачным повторением одной и той же истории, одной и той же «программы», введенной в компьютер с хромосомами родителей, с нашим обучением, формированием и деформацией; мы так нуждаемся в чем–то, что не было бы ни этой папкой, с которой мы прогуливаемся под рукой, ни этим стетоскопом, ни этой ручкой, ни суммой наших чувств, ни суммой наших мыслей, всегда одинаковых, ни итогом тысячи обликов и встреч, которые всегда оставляют нас одинокими на нашем маленьком острове я, которое не является нашим настоящим я, а является миллионом вещей, сброшенных снаружи, из округи, свыше, снизу, через жизнь, мир, другие существа — где я, где я во всем этом, где настоящее я? Этот вопрос становился таким удушающим, что однажды мы сделали шаг наружу — шаг в ничто, который, возможно, был чем–то, но это было все, единственный выход со свинцового острова. И постепенно, на этом маленьком пустом интервале между этой тенью механического я и этим нечто, или этим ничем, которое смотрело на все это, мы видели, как пламя нужды росло в нас, нужды, которая становилась все более и более интенсивной и вопиющей по мере того, как темнота сгущалась в нас, вокруг нас, это пламя неизвестно чего, которое жгло в этом сокрушаемом ничтожестве. И позднее, позднее, как смутная заря, выходящая из ночи, как далекий город, окутанный туманом, мы увидели, как внезапно появляются маленькие мигающие проблески, смутные указания, такие смутные, что они казались огоньками на темном море, о которых невозможно сказать, то ли они в двадцати метрах от нас, то ли в десяти километрах, и не являются ли они просто отражением каких–то звезд, свечением ноктикул под волной. Но даже это ничто было уже чем–то в мире, где не было вообще ничего. И мы настойчиво продолжали. Это пламя нужды установилось в нас (или снаружи нас, или вместо нас?), оно стало нашим компаньоном, нашим присутствием в отсутствии всего, нашей точкой отсчета, нашей интимностью, которая жжет и жжет, и это все. И затем это пламя росло, взывало в нас, так взывало в этом пустом и душащем ничто, затем знаки обрисовывались, множились, зажигались везде понемногу под нашими ногами, как бы говоря: «Ты видишь, ты видишь!», как бы призывая новый мир, заставляя его родиться, как если бы что–то отвечало. И маленькие хрупкие огоньки связывались, укреплялись, прочерчивали линии, координаты, проходы, и мы начинали входить в другую страну, в другое сознание, в другую работу существа — но где же «я» во всем этом, где же тот, кто дирижирует и заправляет, где этот особый путешественник, этот центр, не являющийся ни центром обезьяны, ни центром человека?
Затем мы озирались по сторонам: где я? где же я?… Нет меня! Нет ни следа, ни ряби, что все это значит? Была эта маленькая тень впереди, которая присваивала, копила чувства, мысли, силы, планы, как нищий, который боялся быть обкраденным, боялся не иметь; который все копил и копил на своем острове, умирая от жажды, всегда от жажды, находясь посреди прекрасной водной глади; который возводил линии обороны и сооружал замки против этой грандиозности, слишком большой для него. Но мы вышли из свинцового острова, мы позволили пасть крепости, которая была не столь уж крепка. И мы вошли в другой поток, который казался неистощимым, в сокровищницу, которая беззаботно расточала саму себя: что нам удерживать из этой минуты, если в следующую будут другие богатства? Зачем нам думать и предвидеть — жизнь организовывалась по другому плану, который расстраивал все старые планы и позволял иногда, на секунду, как во взрыве смеха, мельком увидеть чудесное неожиданное, внезапную свободу, полное освобождение от старой программы, маленький легкий закон, который проскальзывал между пальцев, открывал двери, опрокидывал одним щелчком неотвратимые последствия и все старые железные законы, и оставлял нас, на мгновение, озадаченными на пороге непостижимого солнечного света, как если бы мы вдруг очутились в другой солнечной системе — которая, возможно, вовсе не является системой — как если бы стирание механических границ внутри вызывало бы то же самое стирание границ снаружи. Может быть, это было из–за того, что мы стояли перед одной и той же Механикой: мир человека такой, как он о нем думает; его законы — это связи его собственных связей.
Однако есть логика в этом другом способе бытия, и эту логики мы должны уловить, если возможно, если мы хотим сознательно перейти в другое состояние, не только в нашей внутренней, но и во внешней жизни. Надо знать правила этого перехода.
По правде говоря, они раскрываются не легко — потому что они слишком просты. Надо экспериментировать, пробовать, неутомимо наблюдать и, особенно — особенно — смотреть в микроскопическое. Мы предполагаем, что большие обезьяны из прошлого, которые пытались стать людьми, должны были постепенно раскрывать секрет другого состояния через тысячу маленьких секундных озарений, когда они замечали, что эта мистическая маленькая вибрация, которая только что вклинивалась между ними и их механическим действием, имела силу по–другому формировать жест и результат этого жеста: нематериальный принцип начал украдкой менять материю и закон лазания по деревьям. И, предположим мы еще, они, возможно, были поражены незначительностью движения, которое приводило к столь большим последствиям (вот почему это так долго от них ускользало — оно было слишком простым): «это» не требовало крупных действий, не касалось больших обезьяньих дел и содержалось в совсем маленьких жестах, в этом булыжнике, который по случаю поднимали с края дороги и на мгновение держали в руке, в этой маленькой игре солнца на этом молодом побеге среди миллионов других побегов леса, столь на него похожих, но бесполезных. Но на этот булыжник и этот побег смотрели по–другому. И все было в этой разнице.
Значит, для искателя нового мира нет слишком мелких вещей, и малейшее изменение внутренней вибрационной моды тщательно отмечается вместе с сопровождающим его движением, вместе с возникающим обстоятельством, вместе с проходящим образом — но, заметьте, мы говорим о «вибрации»: мысли там почти не видится, мышление относится к старой ментальной гимнастике и имеет не больше ценности для нового сознание, чем лазание по деревьям — для первого мышления. Это скорее как изменение внутренней окраски, игра мимолетных теней и маленьких прикосновений солнца, игра легкости и тяжести, самой незначительной перемены ритма — рывки или спокойные течения, либо внезапные нажимы, которые привлекают наш взгляд, просветы, недомогания, необъяснимые погружения. И нет ничего бесполезного, нет напрасных ростков в этом лесу, нет «засорения», нет того, что надо отбросить, нет тягостных обстоятельств, нет неблагоприятных мест, неуместных встреч, несчастных случаев — все хорошо для искателя нового мира, все попадает в поле его изучения… можно даже сказать, что все дается ему, чтобы он научился своему делу. И искатель начинает понимать первые уроки этого перехода: все имеет свой смысл. Все идет в одном направлении! Нет заторов! Нет противников, нет препятствий, нет несчастных случаев, нет негативных вещей — все в высшей степени позитивно, все для нас значит, побуждает нас к открытию. Нет ничтожных вещей, есть только моменты несознания. Нет противоборствующих обстоятельств, есть только ложные позиции.
Но какова она, эта позиция, которая принесет новое сознание, тот взгляд, что составляет всю разницу? Позиция проста, как мы уже об этом сказали: сначала надо покончить с механикой и зажить в этом пространстве позади. Мы говорим «позади», но, по правде говоря, мы не очень–то знаем, есть ли перед, зад, верх, низ; это только некую отстраненность «нас самих» от этой старой тени; это означает некую позицию, одновременно возвышающуюся и как бы отошедшую назад, как если бы эта тень составляла лишь часть картины среди многих других вещей, на которые мы смотрим — но кто смотрит? где это я, которое смотрит?… Это странное я, это не привычное я. Как будто бы «я» не находится больше в теле, в центре паучьей сети, сплетенной менталом и виталом, а это тело находится в я, со многими другими вещами. И чем больше мы отходим от механики, тем больше расширяется это я, затрагивая множество точек; оно даже способно жить во многих других местах, не испытывая трудности из–за дистанции, как если бы это я не зависело больше от чувств, и, возможно, могло бы жить многообразно, здесь или там, в зависимости от того, на что направлен его луч… Это многообразное я.