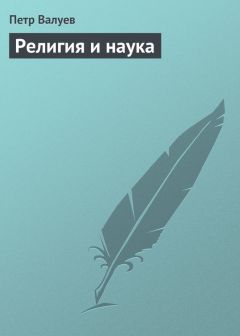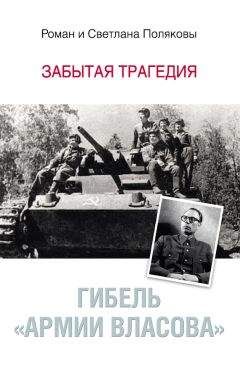Пётр Валуев - Черный бор: Повести, статьи
Особый отдел своей статьи граф Валуев посвятил иллюстрациям и цифровым округлениям преследований со стороны Западно-Европейского общества чародеев, колдунов и колдуний. Эти преследования начались в XIII в. и продолжались постоянно, не ослабевая, до второй половины XVI–II века. Католическая церковь неоднократно разъясняла и утверждала ересь колдунов, и инквизиция подробно начертала следовательный и судебный чародейства и колдовства. Но и Лютер отзывался в том же смысле, что он безжалостно сжег бы всех колдуний.
Цифровые данные, приводимые Валуевым, следующие: в Тулузе, местопребывании инквизиции, до 400 человек казнено одновременно. Реми, один из судей, Нанси, хвалился сожжением 800 колдуний в течение 16 лет. В Париже, по словам современного писателя, даже трудно было определить число казней, совершенных в несколько месяцев. Бежавшие из Франции в Испанию — там преследовались и сжигались инквизицией. В Италии, в одной провинции Комо, сожжено до 1000 человек в один год. То же самое происходило в других местностях Италии, в Швейцарии и Савойе. В Женеве, где тогда управление сосредоточивалось в руках епископа, казнено до 500 колдуний в три месяца. В Констанце и Регенсбурге сожжено 48 и до 80 — в небольшом городе Валери, в Савойе. В Швеции в 1670 г. осуждено до 70, многие из них сожжены. В Шотландии ревность пуритан не знала пределов и свирепствовала не менее упорно, чем ревность католических фанатиков в других странах[130].
XДелая обобщение статьи и взглядов Валуева и выясняя причины такого непрерывно дымящегося костра и жертвоприношения на небосклоне Западной Европы, мы должны привести следующие слова самого автора — слова настолько выпуклые, что они не нуждаются в дальнейшем обобщении.
«Психологическая основа междуусобиц и гонений заключалась в изумительном сочетании христианских верований с совершенно нехристианскими способами распространения и защиты этих верований. Гнет всегда усиливает встречаемое сопротивление, а в делах веры он возбуждает чувства нравственного долга, ставит прямой вопрос между земным и горним и вызывает энтузиазм, доходящий до фанатизма. Напротив того, нам трудно уразуметь действия гонителей; трудно понять их бесчеловеческую свирепость, не щадившую ни возраста, ни пола, их изобретательность по части пыток и казней, их пренебрежение к нравственным страданиям и их равнодушие при виде физических мук. Мы достоверно знаем, что многие из них были люди безукоризненные в нравственном отношении, даже человеколюбиво-благотворительные, притом искренне верующие в истину тех христианских начал, которым их зверская жестокость так явно противоречила. Единственное объяснение этого противоречия можно находить в извращении человеческих чувств превратным пониманием своего долга, которое проистекало от непреклонной суровости догматических убеждений. Мысль, что вне резко очерченного катехизического пути нет спасения для души человека, лежит в основании всех средневековых религиозных преследований и всех пыток и козней испанской инквизиции. Эта мысль упрочилась уже в первые века христианства»[131].
Отсюда Валуев делает следующие практические заключения:
«Нет нужды и необходимости делать какое бы то ни было преследование в вопросах веры и религии.
История свидетельствует, что цели гонений достигались только там, где преследование переходило в истребление. Альбигенсы исчезли. В Испании инквизиция выжгла начатки протестантизма. Но герцог Альба не успел их выжечь в Нидерландах. Гуситы не исчезли, но только видоизменились, или скрылись временно и потом слились с друга ми протестантами. Тридцатилетняя война не воспрепятствовала половине Германии сделаться и остаться протестантской. В Англии католическая иерархия восстановилась рядом с англиканством и диссентерами. Во Франции, несмотря на гугенотские войны и на отмену Нантского эдикта, реформаты свободно исповедуют свою веру. В Италии и в самом Риме римская курия пользуется меньшим влиянием, чем в других католических странах.
Религиозные настроения и движения масс не могут быть насильственно возбуждаемы и направляемы в предопределенном смысле. Гнет вообще вызывает не фанатизм содействия, а фанатизм отпора»[132].
Религиозные смуты и гонения предуготовили удобную почву для Бэйля, Гиббона, энциклопедистов, для тюбингенской школы и для современных ученых, как, например, профессор Гексли.
Поэтому в основание государственной политики Валуев ставит свободу совести и веротерпимости.
Задачу правильного развития религиозной политики, правильного гармонического сочетания между верой и настроением, преданности своей национальной вере и терпимому отношению к чужой религии Валуев возлагает на школу. Этому делу Валуев посвятил особую статью: «Воспитание и образование».
Валуев горячо отстаивает религиозные основы образования в семье, низшей и высшей школы, в частности, он высказывает полное сочувствие идее церковно-приходской школы и участию Церкви в судьбах народного просвещения. И тем не менее критикует систему и форму образования эпохи 80–90-х годов.
Между учебными предметами гимназического курса первое место принадлежит, по перечням, и должно принадлежать, по важности предмета и затруднительности преподавания, тому религиозному учению, которое у нас не совсем точно называется «Законом Божиим».
Но нет предмета, по которому эти результаты вообще признавались бы менее удовлетворительными, как по Закону Божию. Выражая это мнение, Валуев не имел в виду критиковать законоучителей. Напротив того, он убежден, что если бы ввиду законоучителей открыто высказывалось все подобающее им значение, то и приемы преподавателей, и результаты преподавания были бы другие.
Ему казалось, что нет предмета, по которому, за пределами низших классов, было бы менее желательно простое заучивание. Наоборот, нет предмета, по которому было бы более желательно охотное и сочувственное слушание преподавания.
По разъяснению Валуева, Закон Божий, в смысле религиозного учебного предмета, совмещает в себе три части: догматическую, или богословскую, историческую и религиозно-образовательную. Первая — дело веры, вторая — дело знания, третья — дело чувства, сознания и настроения. Первая, в гимназических возрастах, не может иметь обширного развития. Мера развития второй должна быть предоставлена личному такту законоучителя. Если строго следовать программам, то заучивание неизбежно. Во второй части заключается как Священная история, так и объяснение видов и форм Богослужения. Очевидно, что в том и другом отношении рамки в такой степени растяжимы, что никто, кроме самого преподавателя, их твердо установить не может. По ветхозаветной истории, кроме того, также от одного преподавателя зависит указание меры вспомогательного чтения священных писаний. Здесь он ссылается на авторитет одного из отцов Церкви, Св. Григория Богослова, которым сказано следующее: «Мудрейшие из евреев говорят, что у них в древности был особенно прекрасный похвальный закон, которым не всякому возрасту дозволялось читать всякую книгу Писания».
Что же касается религиозно-образовательной, то ей не отведено места в наших программах, если не отнести специально к ней преподаваемого в 5 классе учения о любви, причем в скобках добавлено: «О связи между верою и любовию, о законе Божием и о заповедях»[133].
Посему, развивая далее сущность образовательного религиозного процесса, Валуев говорит, что «в век материальных открытий и духовных отрицаний нельзя считать религиозное образование совершенным в 17-ти или 18-летнем возрасте, нельзя завершать его в аподиктичной форме катехизических вопросов перед выдачей гимназического аттестата зрелости, повторением в 7 и 8 классах курса первых шести классов. По всем наукам аттестат удостоверяет приобретение известной суммы знаний; по Закону Божию он удостоверяет только пройдение курса, выдержание экзамена и приобретение известных фактических сведений. Верований и чувств он удостоверить не может. Перед самым вступлением в самостоятельную гражданскую жизнь, или на путь дальнейшего самостоятельного образования, религиозный строй понятий и убеждений остается открытым вопросом. Даже не предусмотрено и не предуготовлено первоначальных средств обороны против тех отрицаний или сомнений, с которыми бывший ученик гимназии неизбежно встретится и в сфере жизни, и в сфере наук. Сомнения и колебания могут быть возбуждены и ранее, в продолжение гимназического курса. В газетах встречаются критические статьи, не соответствующие историческому учению Церкви; в книгах могут найтись следы критических взглядов тюбингенской школы; у семейного очага может быть прочитан в „Revue des deux mondes“ ряд статей Ренана об „Origines de la Bible“, прямо противоречащих преподаванию законоучителя в 4 классе о священных книгах Ветхого Завета. Законоучитель не может всего этого не предвидеть, и забота об утверждении и оберегательстве коренных начал веры входит в круг его призвания не менее настоятельно, чем частности Священной истории и чина Богослужений. С этой точки зрения его авторитет должен стоять высоко и быть со всевозможным старанием оберегаем. Ученик не должен воображать, что уровень понятий законоучителя не соответствует уровню науки или уровню понятий других преподавателей и что теория движения, о которой говорит учитель физики, или теория термодинамики, о которой будет говорить университетский профессор, могли бы в чем бы то ни было изменить сущность преподаваемого в гимназии религиозного учения. Это учение непременно должно быть, по моему мнению, продолжаемо, а не повторяемо в 7 и 8 классах, и должно вообще принимать, в высших классах, характер научно-религиозной, кроткой, дружественной, предупредительной и предохранительной полу-проповеди. В темах и доводах для такой полупроповеди не может быть недостатка. Жизненный опыт составляет для наставительных размышлений законоучителя источник не менее обильный, чем архив опытных наук для преподавания фактических сведений. В жизни много страданий и труда. Страдания ожидают и учащихся. У многих они уже могут быть перед глазами, если их самих еще не настигли. Нельзя слишком рано указывать им на единственную прочную, никогда не изменяющую опору в тяжкие минуты в жизненном пути.