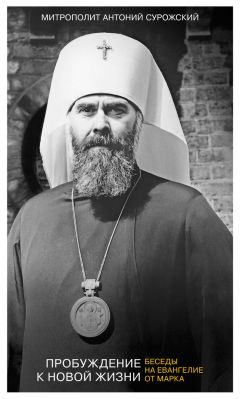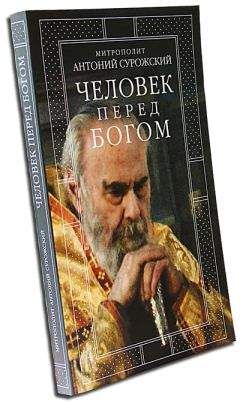Александр Лернет-Холенья - Пилат
С этого момента Пилат исчезает из истории. По одним легендам, его выслали в Галлию, по другим — он поселился в небольшом имении на Сицилии. Наконец, утверждают, что он покончил жизнь самоубийством. Но это все недостоверно. Во всяком случае, он — фигура проблематичная; в то время как западная церковь заклеймила его как убийцу Господа, египтяне-христиане причислили его к лику святых; как бы то ни было, он должен был — хотя об этом ничего не сообщается — все же еще раз появиться в истории; и мы исходили из этого обстоятельства.
Между тем последовали два события, которые потрясли императорский Рим: распространение христианства и так называемая Иудейская война. Можно было бы считать, что одно событие совершенно не связано с другим. Однако они все же связаны между собой, — и эта связь в то время не могла не быть отмечена. Так как не столько само учение Христа, сколько изменения, которые это учение претерпело благодаря апостолу Павлу, уже тогда представляли сомнительной всю структуру античного мира; и одновременно это учение должно было привести и привело — в результате мощного восстания иудеев при Веспасиане и Тите — к разрушению Иерусалима, оторвав таким образом восточную часть империи от западной. Уже Антоний, опираясь на мощь Клеопатры, намеревался сделать восточную часть империи независимой от западной, но Антоний был разбит при Актиуме; иудеи, не зная истинного смысла его деятельности, продолжили эти устремления; и при более поздних императорах эта цель была достигнута. Со времен существования Византии мир, по крайней мере наш, который до сих пор был единым, распался на две половины; сасаниды, хивинцы и халифы, султаны и цари поддерживали эту разъединительную тенденцию, ни один из них не кланялся нашим папам и императорам; и в этом контексте не имеет значения, кто сидит в Кремле, — Александр ли, Николай Романов или Владимир Ильич Ульянов, который разрешает называть себя Лениным: Восток всегда претендовал на Византию, никогда Восток не хотел кланяться Западу, мир никогда не будет единым, пока существуют Рим и Москва».
Между тем за окном совсем стемнело. Донати поднялся и сдвинул парчовые портьеры на окнах. Потом он снова сел за чайный столик.
«Однако, — сказал он, — это далеко не все размышления, которые нас тогда занимали. Но мы обратили внимание лишь на единственный момент страшной драмы, в которой нам и теперь все еще приходится действовать. Мы вырвали лишь один миг из времени начавшихся преследований христиан и вспыхнувшего восстания в Иерусалиме.
Нам не казалось весьма невероятным, что Рим должен был привлечь бывшего прокуратора к ответственности уже тогда, когда тот еще был жив, — и весьма возможно, что тот еще был жив, поскольку ему не могло быть больше семидесяти лет. Однако привлечь к ответственности за что? За то, что он, когда управлял Иудеей, пригвоздил человека к кресту и тем самым совершил изуверство; учение этого человека, питаемое жертвенной смертью своего создателя, грозило ввергнуть мир в пожар; и второе обстоятельство: как можно было предположить, галилейский человек, которого он повесил и который выдавал себя за царя иудеев, являлся никем иным, как предводителем восстания во всей Иудее; и наконец, третье обстоятельство заключалось в том, что о повешенном шла слава как о Боге, и что в Риме, вопреки всем обычаям, не было принято умалять, устранять или даже вешать богов поверженных народов и ниспровергать их идолов».
«Но, мой дорогой! — сказал я, — не хватил ли ты сам в этом слишком далеко? Как же на самом деле Пилат мог бы знать, что тот, кого иудеи волокли перед ним по земле, был Богом? Сегодня мы это, конечно, знаем — но что знали об этом тогда? Неужели ты считаешь, что даже в наши дни высший руководитель Сирии может распознать в путанице обстоятельств происки арабов и сионистских поселенцев? Думаешь ли ты, что руководство Сирии хотя бы приблизительно разбирается в причинах стычек и нападений, которые там все еще происходят? И наконец: как можно, тех, кто облечен властью, привлекать к ответу за то, что они делали десятилетия тому назад! Все забыто, и их не привлекут к ответственности даже за те деяния, которые они совершают, находясь у власти. Чиновники, дипломаты, военные — все они пользуются иммунитетом, если не в принципе, то во всяком случае практически, и пользуются иммунитетом с давних времен; и по праву, так как ответственность, которой они облечены, настолько чрезвычайна, что к ним может быть проявлена снисходительность за неполное знание обстоятельств, при которых они действовали или действуют».
«Ты прав, — сказал он и поместил сигару в трубочку из пера с ободком из слоновой кости, — ты, конечно же, совершенно прав. Однако мы предполагали, что при примитивном политическом и правовом положении вещей в античном Риме, события должны были бы развиваться иначе…»
«Однако это положение вещей не могло быть настолько примитивным, — перебил я его. — Наше право все еще основывается на римском праве, и наша политика все еще предпочитает считать римское право образцом…»
«Допустим, — перебил теперь он меня, — однако, это верно, когда речь идет о крупных вещах, а когда дело касается незначительных событий или вещей, — а к ним тогда можно было отнести расправу над каким-то иудеем, — то высокими принципами вполне могли и пренебречь. Разве позднее не пренебрегали убийствами бесчисленных иудеев? Таким образом, следует предположить, что пренебрегли и распятием Христа, поскольку еще не было известно, что за этим распятием последует, по принципу «minima nun curat praetor» — минимум забот о врагах прокуратора. Лишь когда последствия выявлялись все больше, когда они даже становились угрожающими, начинали себя спрашивать, что является причиной всех этих бед; при этом натолкнулись на Пилата и распятие. Может быть, к тому времени Пилат уже умер — я не знаю; известно ли тебе, например, что самому старому, чей могильный камень нашли в Карнунтуме, унтер-офицеру легиона, — а их, легионы, сменяли один за другим, — так вот, ему было 58 лет. В те времена жизнь была короткой, и если Пилат был тогда еще жив, если его тогда судили, как бы он мог себя защитить? Чем бы все это закончилось, — это мы и хотели бы знать.
Итак, мы предположили, что Пилат, после того, как миновало время его — возможной — ссылки, жил в своем сицилийском имении. Там он занимался писанием тех или иных трактатов по скептической философии и переправлял их в Рим, издателю Помпонию Аттику, другу Цицерона, или, скорее всего, преемнику этого издателя, поскольку Помпоний Аттик, как и Цицерон, к тому времени давно умер. Однако успех у этих писаний если и был, то слишком большой, в противном случае издательство часто бы их переиздавало, так что до нас дошел бы один или другой экземпляр, и существование Пилата подтвердилось бы уже в те времена, и нам не пришлось бы всего лишь предполагать, что Пилат существовал.
Таким образом, когда поднялся занавес над драмой, которую мы надумали сыграть, я находился на сцене в роли существовавшего прокуратора и диктовал греческому писцу, — а его представлял молодой господин Саросивич, поляк, — философское сочинение. Саросивич — небольшого роста, весьма подвижный, с глазами крысы — даже внешне походил на грека.
Мы играли по ночам, в наших спальных залах. На кроватях вплотную друг к другу сидели ученики всего института и напряженно следили за спектаклем, и хотя и не было никаких декораций, к нему «земля и небо приложили свои руки» — «alio qualpose mano е cielo е terra», — как сказал мой очень дальний кузен Данте — и этому спектаклю, несмотря на свое принципиальное неодобрение нашего эксперимента, радовались любившие театр иезуиты времен барокко. Так же, как и при постановках греческой трагедии, где над самыми высокими ярусами, над зрителями склонялись мерцающие тени богов, можно было себе представить, что и над плечами наших воспитанников, сидевших на своих кроватях, склонялось все небо со всеми своими ангелами, праотцами и святыми, чтобы принять участие в нашем исследовании — существует ли Бог вообще, или его нет, — для Бога же все они были здесь и без Бога не существовали бы».
После этих слов он с извиняющейся улыбкой протянул руку к графину с ликером и налил себе и мне по полному стакану. Напиток был розового цвета. Признаюсь, что я даже более чем заинтересовался исходом этого особенного предприятия. Я сидел совсем тихо. Только с улицы к нам доносился шум трамваев и приглушенные звуки прочего транспорта.
«За Господа! — добавил Донати через несколько мгновений. — Наконец, нужно же на что-то решиться, — может быть, даже ради него самого. Так как, если его не привлечь, он нам не откроется. Итак, — продолжил он быстро, как бы стирая только что сказанное, — я склонился над пишущим Саросивичем и начал импровизировать. Представим, сказал я, глядя из окна или из-под арки наружу, что это та же местность, о которой Вергилий пел в своих пастушеских стихах! Здесь не слышно ничего, кроме шума возвращающегося вечером стада, так что можно быть хоть самим Локсиасом, от которого не ускользает ни одно событие в мире, но что в том пользы! Снова и снова слышишь только тупой рев стада, как в Пито. После этого намека, который отсылает к одному месту из Пиндара, — его-то я и собирался, когда готовился к спектаклю, продекламировать, но сейчас забыл, — и при виде того, что происходило у меня на глазах, я начал нетерпеливо ходить по комнате. То, что я забыл, вскоре проявилось из самого диалога. Саросивич стрелял снизу на меня своими крысиными глазками: — Может быть, я заскучал из-за длительного пребывания в деревне, в этом буколическом уединении. Не хочу ли я куда-нибудь поехать? — На какие же средства? — вскричал я. — Если бы я предпринял эту поездку, то уже на полпути израсходовал бы со своей свитой половину моего годового дохода за один-единственный день в Сиракузах, даже не добравшись до Дрепана. Да и зачем ехать! Никто меня не ждет, в мире я забыт. Уже годы, уже десятилетия моим уделом стали несчастье и бедность, — с тех пор, как я оставил Иудею, все словно околдовано, и все мои дела бессмысленны. В подтверждение этого, мое издательство из Рима сообщило мне, что никто не думает покупать мои книги.