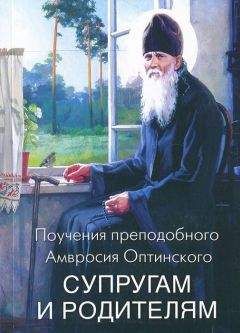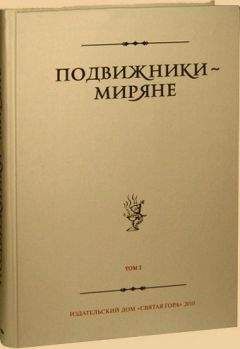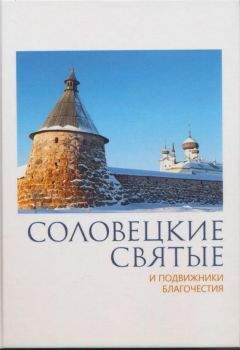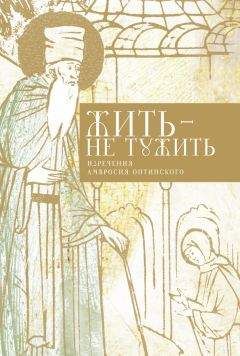Евгений Поселянин - Русские подвижники 19-ого века
Отец Амвросий знал не только чувства тех, кто находился пред ним, — ему было известно настроение тех, кто приходил в первый раз; когда ему докладывали, он уже знал, привела ли к нему нужда или любопытство — надо ли принять поскорее или смирить ожиданием. Кто был внимателен к себе, тот замечал, что, чем тяжелее была ноша, с которою шли к батюшке, тем ласковее был его привет, хотя бы было темно и не было видно выражения лица приходящего.
Как и дар прозорливости, скрывал отец Амвросий и дар исцеления. Он имел обычай посылать купаться в целебный колодец Тихоновой пустыни и отнимать у себя всякую славу целителя.
Исключительно действием благодати можно постинуть то несение скорбей, которые принимал на себя батюшка. Эти скорби принимал он во множестве от тех людей, которые со всех сторон шли к нему, чтоб возложить на него эти скорби и самим облегчиться. Он безропотно принимал их и нес, принимал не как нечто чужое, а как кровное, свое, участвовал в них не внешним образом сочувствия, а переживал их, как собственное страдание. Если он был для людей тем, что звучит в имени "отец Амвросий", — то это потому, что чужая жизнь со всеми ее чувствами была для него своя жизнь.
Те, которым приходилось жить полною внутреннюю жизнею, знают, что иногда трудно переносить эту полноту даже одних своих чувств. И эта область ограничена; приходят времена, когда восприимчивость притупляется, чувство изнемогает, чувство человеческое.
Не то было с отцом Амвросием. Его подкрепляла постоянно бесконечная сила, и он всякое мгновение своего существования мог принять и нести новую скорбь. Посреди ужасающих бездн человеческих бед, казней и страданий, где ходил утешителем отец Амвросий, ему было дано сохранять неземную ясность духа, высочайшую мудрость и безмятежие младенца. Не разрешенный еще от уз тела, он страдал скорбями и по-человечески его видали иногда согбенного, с низко склонившейся головой. Он шептал тогда в укоризну себе: "Я был строг в начале своего старчества, а теперь я стал слаб. У людей столько скорбей, столько скорбей". И в эти скорбные часы он возлагал свою печаль на Бога и получал новую крепость. Бог, поставивший его среди людских страданий для облегчения их, был всегда с ним; и потому мог утешать скорбных отец Амвросий, что он был посредником между людьми и тем Крестом Христовым, на котором на веки веков разрешились все скорби, на котором пребывает бесконечная сила Божественного сострадания.
"Я слаб", говорил батюшка о своем старчестве, но это была не слабость, а снисходительность, основанная на вере в божественную душу и на любви. Отдав свою жизнь русскому народу и стоя у самых сокровенных тайников народной жизни, отец Амвросий был глубокий знаток русского человека. Он знал, что в душе, познавшей самые омерзительные падения, не утрачена еще способность дойти и до подвижничества, что есть личности, которые свои былые преступления искупают величайшим раскаянием, он знал, что карать осуждением на Руси еще несправедливее, чем где-либо, и что люди, которые низко падают, но высоко встают и в постоянной борьбе против греха, хотя и побеждаемые, не утрачивают высочайших стремлений и не сдаются до конца — заслуживают большего участия, чем те обыденные, не злые и не добрые люди, о которых сказано: "Ты ни холоден, ни горяч — и потому изблюю тебя вон".
Чтобы дать лучшее понятие о том, почему был так дорог старец своим духовным детям, должно рассказать и о других сторонах его существа.
Батюшкино смирение было так велико, что и других он заставлял забывать о том громадном явлении, которое представляет собою отец Амвросий.
О людях, которые сделали ему очень много зла, он отзывался с самым искренним участием и, конечно, не сознавал, что совершает подвиг. Ни недоверие, ни оскорбления не могли заглушить в нем самой теплой любви и заботы о каждом человеке. В тех случаях, где другой бы хоть невольно смутился, он отделывался шуткой.
Раз при народе какая-то простолюдинка, кажется, цыганка, закричала: "Батюшка, а батюшка, погадай-ка мне!" Отец Амвросий отозвался ей: "А карты принесла?" — _ "Нет, карт нету". — "Ну, как же тебе гадать без карт?"
Его милостыня не знала пределов. Он сам держался и другим советовал такое правило: никому никогда не отказывать — и никому не отказал. Через его руки прошло множество денег, которые приносили ему его дети, и эти деньги расходились с необыкновенною быстротой. Этими деньгами жил и строился Шамордин с его более чем полутысячным составом монахинь и его обширными богадельнями, из этих денег давались десятки, сотни и тысячи — в виде подарков, займа без отдачи и просто помощи всем, кто ни просил, а часто кто и не просил, и кому было нужно.
Часто происходили такие разговоры. Батюшка возится у себя на постели и ищет денег, проситель настаивает, чтобы дали сейчас же. Батюшка зовет келейника: "Посмотри-ка где-нибудь, у нас рубль где-то остался, поищи — просят". — "Кабы вы не велели вчера еще отдать, так бы точно оставался, а теперь ничего нет. Вот, все раздаете, а рабочие жалованья просят — чем платить будем?" Батюшка, чтоб утешить келейника, делал вид, что раскаивается и сокрушенно качал головой. Рубль где-нибудь разыскивали, а вскоре в Козельскую почтовую контору на имя иеросхимонаха Амвросия приходила крупная повестка, платили рабочим и по всем концам чрез ту же контору рассылали помощь нуждающимся. Одним из последних пожертвований отца Амвросия было очень значительное количество денег, данное на голодающих.
В отце Амвросии в очень сильной степени была одна русская черта; он любил что-нибудь устроить, что-нибудь создать.
Созидающая деятельность была у него в крови. Он часто научал других предпринять какое-нибудь дело, и когда к нему приходили сами за благословением на подобную вещь честные люди, он с горячностью принимался обсуждать и давать свои пояснения. Он любил бодрых, сообразительных людей, соблюдающих слова "сам не плошай", и давал благословение, а с ним и веру в удачу самым смелым предприятиям.
Старец был великий мастер и по-человечески придумать, как вывернуться из беды и отстоять себя, а вооруженный своею прозорливостью, он мощно разбивал самые несокрушимые препятствия. Когда пред ним в отчаянии ломали руки, умоляя научить, что делать, он не говорил: "Не знаю, что сказать вам, не умею", а показывал, как и что делать. Умилительно вспоминать, каким глубоким умом обладал старец и какие вещи умел он придумывать для своих детей — от самых сложных предприятий до последней вещи домашнего обихода. Останется совершенно непостижимым, откуда брал отец Амвросий те глубочайшие сведения по всем отраслям человеческого труда, которые в нем были; среди них не было ни одной, по которой бы отец Амвросий не мог дать самых основательных советов.
Приходит к батюшке богатый орловский помещик и, между прочим, объявляет, что хочет устроить водопровод в своих обширных яблоневых садах. Батюшка уже весь охвачен этим водопроводом. "Люди говорят, — начинает он со своих обычных в подобных случаях слов, — люди говорят, что вот как всего лучше", — и подробно описывает водопровод. Помещик, вернувшись в деревню, начинает читать об этом предмете; оказывается, что батюшка описал последние изобретения по этой части. Помещик снова в Оптиной. "Ну, что водопровод?" — спрашивает батюшка с горящими глазами. Вокруг яблоки — гниль, а у этого помещика у одного богатый урожай прекрасных яблок.
Сам отец Амвросий обладал замечательными способностями строителя, и в этом деле, благодаря его всезнанию, случались поучительные вещи.
Не выходя из кельи, старец знал каждый угол Шамирдина и все подробности. Приходит монах, заведующий постройкой; заходит речь о песке. "Ну, отец Иоиль, песок у тебя теперь свален; аршина… (батюшка точно прикидывает в уме) аршина два с половиной глубины будет или не будет?" — "Не знаю, батюшка, смерить не успел". Еще два раза спрашивает батюшка о песке, и все не мерили, а как смеряют наконец, то непременно окажется так, как говорил батюшка.
Или примется старец прикидывать план здания. Взглянет на длину и скажет: "Аршин 46 тут будет?" Потом план переиначивают, делают пристройки, укорачивают, а как здание готово — непременно 46 аршин окажется.
День старца начинался часов с 4–5. В это время он звал к себе келейников, и читалось утреннее правило. Оно продолжалось более двух часов. Затем келейники уходили, и батюшка оставался один. Сколько времени он употреблял на сон, неизвестно, но, по примерам других аскетов, можно предположить, что из своих четырех полных часов он большую часть отдавал на молитву. Вероятно, в утренние уединенные часы он готовился к своему великому дневному служению и у Бога искал силы. Это доказывается следующим случаем.
Однажды батюшка с вечера назначил прийти к себе двум супругам, имевшим до него важное дело — в тот час утра, когда он не начинал еще приема. Они вошли.