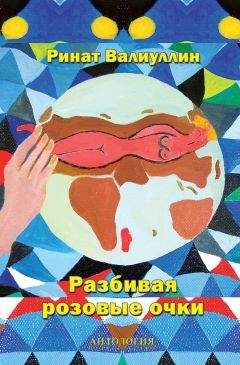Карен Амстронг - История Бога
Когда эти радикальные идеи распространились на европейский континент, новое поколение историков взялось за объективный пересмотр церковной истории. Так, в 1699 году Готфрид Арнольд опубликовал беспристрастное исследование "История церквей от начала Нового Завета до 1688 года", где показывал, что нынешняя ортодоксия вовсе не восходит к изначальной Церкви. Иоганн Лоренц фон Мосгейм (1694-1755 гг.) в своей авторитетной работе "Институты в церковной истории" (1726 г.) сознательно отделил историю от богословия. Другие историки (в частности Джордж Уолш, Джованни Бут и Генри Морис) изучали историю сложных доктринальных противостояний - арианства, споров о filioque, многочисленных церковных дебатов IV-V вв. Многим верующим весьма неприятно было узнать, что привычные догмы о естестве Бога и Христа на самом деле разрабатывались долгими столетиями, а не излагались непосредственно в Новом Завете. Не означает ли это, что они - просто вымысел? Кое-кто заходил еще дальше и применял научную объективность даже к Новому Завету. Герман Самуил Реймарус (1694-1768 гг.) попробовал написать критическую биографию самого Иисуса. Вопрос о Человечности Христа покинул мистическую и доктринальную сферы и стал в Век Разума предметом научных изысканий, что ознаменовало подлинное начало современной эпохи скептицизма. Реймарус доказывал, что Иисус просто мечтал основать благочинное государство, а когда Его миссия потерпела провал, от отчаяния пошел на смерть. Ученый подчеркивал, что евангельский Иисус никогда не говорил, будто явился искупить человеческие грехи. Идея искупления, занявшая впоследствии центральное место в Западной Церкви, впервые появилась лишь у апостола Павла, которого и следует считать истинным основоположником христианства. Таким образом, Иисуса следует чтить не как Бога, а как проповедника "замечательной, простой, возвышенной и практичной веры"18.
Эти объективные исследования опирались на буквальное прочтение Писания и не принимали во внимание символическую, метафорическую сущность веры. На критику такого рода можно возразить, что применительно к религии она столь же неуместна, как и в отношении искусства либо поэзии. Тем не менее, с тех пор, как научный дух стал для многих людей нормой, они уже просто не могли по-иному воспринимать Евангелие. Западные христиане всецело поддались буквальному пониманию своей религии и бесповоротно отдалились от мифа: любое повествование отныне было либо фактически правдивым, либо вымышленным. Вопрос о происхождении религии оказался намного важнее для христиан, чем, скажем, для буддистов, ведь вся традиция единобожия изначально зиждется на постулате, что Бог открывает Себя в событиях истории. Для того чтобы сохранить сплоченность своих рядов в эру науки, христианам просто необходимо было решить этот вопрос. Те из верующих, кто придерживался взглядов более традиционных, чем радикальные воззрения Тиндаля или Реймаруса, тоже начинали подвергать сомнениям привычное для Запада восприятие Бога. В своем научном изыскании "Невиновность Виттенбурга в двойном убийстве" (1681 г.) последователь Лютера Иоанн Фридман Майер заявил, что традиционная доктрина Искупления, сформулированная еще Ансельмом и предполагающая, что Господу понадобилась смерть Его же Сына, отражает концепцию Божества неадекватно. То был "Бог праведный, Бог разгневанный" и "Бог ожесточенный", чьи требования сурового воздаяния вселяли во многих христиан ужас и внушали им отвращение к собственной "греховности"19. Все большее число христиан начинало стыдиться многочисленных жестоких эпизодов истории христианства - кошмарных крестовых походов, судов инквизиции и гонений во имя "праведного" Бога. В ту эпоху, когда людей все больше манила свобода личности и совести, насильственное навязывание веры в ортодоксальные доктрины выглядело особенно омерзительным. Кровавая бойня, затеянная верующими в эпоху Реформации, и ее трагические последствия, похоже, стали для европейцев последней каплей.
Вера в разум казалась верным ответом. Но мог ли Бог, лишенный той таинственности, что долгими веками берегла Его действенную религиозную значимость во множестве других течений, - мог ли такой Бог по-прежнему привлекать христиан с богатым воображением и сильной интуицией? Пуританского поэта Джона Мильтона (1608-1674 гг.) больше всего удручала летопись нетерпимости христианства. В неопубликованном трактате "О христианской доктрине" Мильтон, как человек своей эпохи, попытался реформировать Реформацию и самостоятельно разработать религиозное кредо, которое не зависело бы от чужих мнений и суждений. Мильтон тоже сомневался в таких традиционных доктринах, как догмат о Троице. Примечательно, что подлинным героем его шедевра "Потерянный рай" стал скорее Сатана, чем Бог, чьи деяния поэт намеревался оправдать перед людьми. Мильтоновский Сатана имеет много общего с новым типом европейца: он ниспровергает авторитеты и бросает вызов неведомому, а отважное путешествие из Ада через Хаос к только что сотворенной Земле превращает его в настоящего первопроходца. С другой стороны, Бог Мильтона отражает все нелепости западного буквализма. В отсутствие мистического понимания Троицы положение Сына в поэме становится крайне двусмысленным: совершенно неясно, например, кто Он - второй Бог либо просто сотворенное существо, пусть и предстоящее выше ангелов. Так или иначе, Сын и Отец у Мильтона - две принципиально разные сущности. Чтобы выяснить намерения друг друга, они вынуждены вступать в пространные и чрезвычайно скучные диалоги - несмотря на то, что поэт прямо признает в Сыне Слово и Премудрость Отца.
Однако то, как поэт толкует божественное предначертание земных событий, делает мильтоновского Бога поистине невероятным. Поскольку Бог заведомо - еще до того, как Сатана доберется до Земли, - знает о неминуемом грехопадении Адама и Евы, Ему поневоле приходится оправдывать Свои грядущие поступки благовидными предлогами. Бог поясняет Сыну, что смирение, навязанное силой, не приносит Ему никакой радости, и потому Он наделил Адама и Еву способностью противостоять Сатане. Словно защищая Себя, Бог заявляет, что люди не вправе винить Его:
Я справедливо создал их. Нельзя
Им на Творца пенять и на судьбу
И виноватить естество свое,
Что, мол, непререкаемый закон
Предназначенья ими управлял,
Начертанный вселенским Провиденьем.
Не Мною - ими был решен мятеж;
И если даже знал Я наперед -
Предвиденье не предвещало бунта. […]
На них вина. Они сотворены
Свободными; такими должно им
Остаться до поры, пока ярмо
Не примут сами рабское; иначе
Пришлось бы их природу исказить,
Ненарушимый, вечный отменив
Закон, что им свободу даровал.
Избрали грех они…20
Мало того, что в столь сомнительные рассуждения трудно поверить, так Бог еще и выглядит тут бессердечным лицемером, начисто лишенным сострадания - которое, казалось бы, как раз должна внушать Его религия. Попытки заставить Бога говорить и мыслить под стать людям явственно отражают неуместность антропоморфных, персонифицированных представлений о Божестве. Подобный Бог слишком противоречив, чтобы быть последовательным и достойным поклонения.
Буквальное понимание таких постулатов веры, как Божье всеведение, не приносит никакого проку. Мильтоновский Бог не только черствый и безжалостный, но и совершенно неумелый. В двух последних частях "Потерянного рая" Бог посылает архангела Михаила утешить согрешившего Адама откровением о том, как будут спасены его потомки. История Искупления предстает взору Адама как ряд живописных сценок с комментариями Михаила. Адам видит убийство Авеля Каином, всемирный потоп и Ноев Ковчег, Вавилонскую Башню, призыв Авраама, исход из Египта и передачу скрижалей Завета на горе Синайской. Как поясняет Михаил, искажения в Торе, долгие столетия угнетавшей невезучий "народ избранный", - особая уловка, необходимая для того, чтобы пробудить у евреев тягу к высокодуховной жизни. Дальнейшая подготовка к Спасению - подвиги Давида, исход из Вавилонского пленения, рождество Христа и так далее - поневоле вызывает у читателя мысль, что спасти людей можно было куда проще и быстрее. Тот факт, что этот путаный план, с его нескончаемыми провалами и неувязками, был задуман загодя, не внушает ничего, кроме мрачных сомнений в здравомыслии его Автора. Мильтоновский Бог не вызывает симпатии. Любопытно, что после "Потерянного рая" ни один видный английский писатель даже не пытался описывать сферу сверхъестественного. Новых Мильтонов или Спенсеров так и не появилось. Отныне в духовный и Божественный миры совались разве что авторы-середняки вроде Джорджа Макдональда21 или К. С. Льюиса. Между тем Бог, ничего не говорящий воображению, вызывает беспокойство.
В самом конце "Потерянного рая" Адам и Ева одиноко бредут из Сада Эдемского в бренный мир. Христиане Запада тоже стояли в ту пору на пороге более светского образа жизни, хотя и с верой в Бога расставаться не собирались. Новая, рассудочная религия получит позднее название "деизм". На мистические и мифологические игры воображения у этой веры не было времени. Она отвернулась от мифов об откровениях и от таких традиционных "тайн", как Троица, которые долгими веками держали людей в рабстве предрассудков. Новая религия объявила о верности безличному "Deus", которого человек открывает собственными силами. Франсуа-Мари де Вольтер, живое олицетворение того движения, которое впоследствии нарекут Просвещением, определил этот религиозный идеал в своем "Философском словаре" (1764 г.). Прежде всего, эта вера должна была выражаться как можно проще: