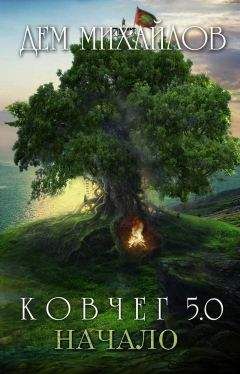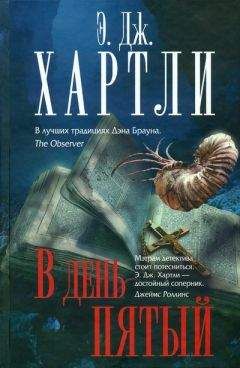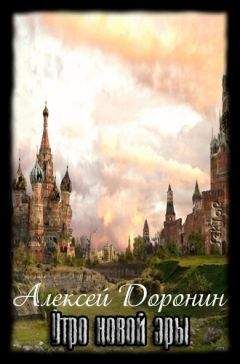Джордж Макдональд - Сэр Гибби
Глава 44
Грешница
Ни один человек не может сам распоряжаться своей жизнью, ибо жизнь, как волна, нагоняет и накатывается на него сзади. Но даже если бы жизненный поток бежал у нас перед глазами и мы издалека видели его приближение, разве могли бы мы хоть что–то с ним сделать, пока не настанет сегодня и он не добежит, наконец, до нас? Глуп тот, кто рассуждает, что со своим характером и воспитанием мог бы сделать то–то и то–то, если бы ему вовремя дали знать о том–то и об этом–то. Даже будь он и вправду таким добрым и мудрым, каким себя считает, в лучшем случае он произвёл бы на свет плоскую камею с едва намеченными выпуклостями. Ничего по настоящему объёмного (каким он и должен быть сам) ему не сделать никогда. Главная тайна жизни и роста заключается не в том, чтобы измысливать и выдумывать что–то своё, а в том, чтобы соучаствовать в работе уже действующих сил, каждую минуту совершать свой долг, исполняя ту часть дела, что предназначена нам, — и пусть будет то… нет, не «то, что будет» (такого вообще не бывает), а то, что Вечная Мысль задумала и приготовила для каждого из нас с самого начала. Если бы человеки поверили, наконец, что их творение продолжается, и позволили бы Создателю делать с ними Своё дело, поступать с собой так, как горшечник поступает с глиной, покоряясь Его рукам, послушно вторя Его движениям и с надеждой действуя в такт Его колесу, они давно научились бы с радостью принимать всякое прикосновение Его пальцев, даже если оно приносит с собой острую боль. Они научились бы даже не только верить в Божье предназначение, но и иногда узнавать его, помня, что Он пытается привести Своих сынов в славу. А то часто они ведут себя как дети, брыкающиеся и вопящие во всё горло, пока мать одевает их и умывает. Конечно, в конце концов, их всё равно умоют и оденут, только это будет стоить им многих слёз и неприятностей. Подчас они даже оказываются в углу — с мокрыми, спутанными волосами, в кое–как напяленных штанишках — до тех пор, пока не придут в себя и не попросят родителей вытереть их насухо, надеть им рубашонку и застегнуть её на все пуговицы.
В тот момент ни Гибби, ни Донал не пытались противиться тому, что творил в них Отец, — тому, что мудрые мира сего называют судьбой. По правде говоря, Гибби вообще никогда ей не противился. Что же касается Донала, то сейчас судьба казалась ему настолько благосклонной, что у него не возникало ни малейшего желания ей сопротивляться. Новая страница жизни была ему очень по душе. И если он не вышел в первые ученики, то не из–за небрежного отношения к урокам, а потому, что кроме учёбы он был занят тем единственным занятием, благодаря которому в колодце его существа могла появиться и подняться чистая, свежая вода. Он сам продолжал расти. Он слишком жадно тянулся к знаниям, чтобы соперничать со сверстниками, и потому не тянулся за наградами: что за дело ему было до того, много ли пищи смогут съесть и переварить его товарищи по сравнению с ним?
Соревновательность, равно как и жадность, не может породить никакого по–настоящему благородного или воистину благого дела; мне кажется, в духовном смысле эти побуждения одинаково вредны. И только потухший, скучный и вульгарно–обыкновенный учитель будет заставлять своих подопечных трудиться из честолюбивых соображений, стремясь показать всему миру, каких прекрасных учеников он способен произвести, чтобы впоследствии неумные родители приводили ему всё новых и новых учеников. Соперничество рядится под целеустремлённость, но на деле является лишь бесовской тенью высоких мечтаний. Модные поветрия в школах и университетах влекут студентов прямиком в это бескрайнее болото, но мудрые учителя прекрасно это понимают, а мудрость — это та самая черепаха, которая первой приходит к финишу. Сколько учеников с головой и лапами быстрых зайцев наивно полагают, что вот–вот добегут до конца, вот–вот добьются наивысшей награды, а на самом деле всё это время безвозвратно теряют то, без чего любая награда теряет всякий смысл!
На экзаменах Донал показывал лишь небольшую часть своих приобретений, но заработанные отметки были честными и делали ему честь. Главное же скрывалось в его мыслях, устремлениях, в его росте, в его стихах — во всём, что однажды может предстать взору моего читателя, если мне случится рассказать историю самого Донала. Что же касается Гибби, то почти с самого начала обучения мистер Склейтер задумал дать ему настоящее классическое образование. Постепенно его подопечный приобретал необыкновенное умение ясно и выразительно писать — отчасти из–за того, что ему приходилось прилагать к этому особые усилия. Его учитель, всегда находившийся в плену условностей, хотел было заставить Гибби подражать тем авторам, которых сам считал мастерами изысканного стиля, но тот так и не усвоил эту вредную глупость. Его заботило лишь одно: как сказать именно то, что хочешь сказать, а не что–то другое; понять, что сделать этого не удалось, и исправить ошибку, выбрав нужные слова. И если потом люди не понимали, что именно имеет в виду Гибби, то обычно виноваты в этом были они сами, а если порой его манера выражаться казалась им забавной, то только потому, что она была естественнее, нежели их собственный стиль: чтобы улучшить написанное Гибби, им пришлось бы изрядно попотеть!
Трудно сказать, почему Гибби был немым. Его опекун почти сразу же обратился к одному из самых лучших и известных врачей, профессору университета, но мнение доктора Скиннера заставило его навсегда оставить всякую надежду на то, что мальчик когда–нибудь заговорит. Сам Гибби ничуть этим не опечалился. До сих пор он прекрасно обходился и без речи. Вот если бы у него не было зрения или слуха, это было бы совсем другое дело. Он не мог слышать одного–единственного голоса: своего собственного, а как раз в этом у него не было ни нужды, ни малейшего желания. Что же до его друзей, то чем дольше они его знали, тем меньше печалились из–за его постоянного молчания. Но как только врачи объявили этот дефект неизлечимым, миссис Склейтер поступила весьма мудро, начав обучаться языку глухонемых, чтобы разговаривать с помощью знаков и жестов. Она училась сама и тут же обучала этому Гибби.
Однако главной её заботой были его манеры, потому что вслед за первыми быстрыми успехами тут же последовало некоторое разочарование: она никак не могла добиться от него той безупречной заученности жестов и выражений, которые принимала за окончательный блеск и отточенность безукоризненного поведения. В нём всё равно оставалась та безыскусственность, которую миссис Склейтер назвала ребячеством. На самом деле это была детская простота, но сама миссис Склейтер не была в достаточной степени ребёнком, чтобы ощутить разницу между одним и другим. А разница между ними есть, и большая — ничуть не меньше, чем между лбом и затылком! Мистер Склейтер никак не мог добиться, чтобы Гибби научился писать по чужим образцам, но вскоре обнаружил, что у мальчика появился свой собственный стиль. Так и миссис Склейтер: она никак не могла добиться, чтобы Гибби усвоил себе определённую манеру поведения и пускал её в ход всякий раз, когда появлялся в обществе. Казалось, он просто к этому неспособен, как некоторые другие люди неспособны обходиться без такой вот усвоенной светскости; стоит им отложить её в сторону, как вместе с манерами с них слетает всякая учтивость. Итак, миссис Склейтер была недовольна, но самому Гибби вполне хватало того, что его внешний вид и манеры полностью соответствуют его внутренней сущности и состоянию, хотя он никоим образом не желал всегда оставаться таким, каким был. Немота для него — настоящее благословение, втайне говорила миссис Склейтер самой себе; так он вполне может появляться в любом обществе. Вот если бы он умел говорить, ей никогда не удалось бы сделать из него подлинного джентльмена: он всегда говорил бы то, что нужно, в совершенно неуместной обстановке и в совершенно неподходящий момент. Под неуместной обстановкой и неподходящим моментом она подразумевала именно такие обстоятельства, в которых это «нужное» высказывание единственно имело бы смысл и цель. Однако в последующие годы все, кому доводилось познакомиться с Гибби, единодушно признавали его манеры милыми и прямо–таки чарующими. Сам Гибби знал и думал о них ничуть не больше, чем о своей собственной оригинальной манере письма.
Однажды вечером по дороге с вечеринки между мистером и миссис Склейтер произошла размолвка — скорее всего, по самому пустяковому поводу, который для них самих был ничуть не важнее, чем для нас с вами. К тому времени, когда они добрались до дома, их обращение друг к другу как раз достигло самой что ни на есть изысканной вежливости и учтивости. Гибби сидел в гостиной, дожидаясь их возвращения. С первой же секунды уже по одному их тону он понял, что что–то не так. Они же были слишком поглощены своей ссорой, чтобы обратить внимание на его присутствие, и продолжали пререкаться, безукоризненно соблюдая все каноны внешних приличий, но в каждом взгляде и тоне обоих сквозило чувство обиды и желание отомстить.