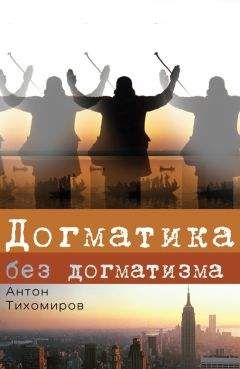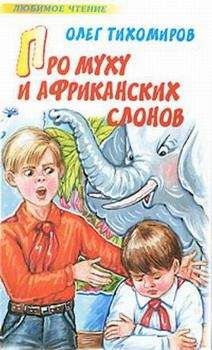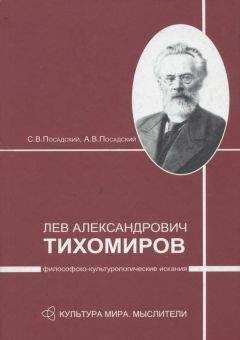Антон Тихомиров - Истина протеста. Дух евангелическо-лютеранской теологии
Конечно, этическое несовершенство и испорченность непосредственно связаны с человеческой греховностью, но между ними нельзя ставить знак равенства. Испорченность человека – в самых разных аспектах, в том числе и в этическом – следствие и проявление греха, природа которого лежит гораздо глубже, а именно в том, что человек по самой своей природе не может безусловно доверять Богу и безусловно любить Его, что жизнь человека – это жизнь, устремленная не на Бога.
Теперь нам может стать понятным принципиальное в протестантском богословии различение между праведностью дел (или праведностью закона) и праведностью веры. Совершая то или иное доброе дело, работая над своим совершенствованием, исполняя закон Божий, который дан нам как в заповедях Писания, так и в виде этических максим, требований совести начертан в наших сердцах[12], мы стремимся – пусть даже абсолютно искренно и бескорыстно – стать праведнее, стать угодными Богу. Мы стремимся стать угодными Богу, работая над собой. И, может быть, даже (почему бы не признать этого?) мы, действительно, становимся лучше. Но вот здесь-то и возникает проблема. Тем самым мы в своих отношениях с Богом ставим на первое и решающее место самих себя, мы сами – своими делами и усилиями – стараемся определить и оформить наши отношения с Богом, повлиять на них, а вот это и противоречит тому безусловному упованию на Него, о котором говорит Лютер! Ведь иметь Бога – вспомним слова Лютера из Большого Катехизиса – означает все свое упование возлагать на Него (то есть верить в Него). Если мы этого не делаем, то мы Бога и не имеем, мы – в буквальном смысле этого слова – безбожники. Мы стремимся стать лучше – это значит, что свое упование, по крайней мере отчасти, мы возлагаем на себя. Мы не вручаем себя целиком и полностью в руки Божьи. Таким образом, именно стремясь стать праведным перед Богом, стать праведным перед Ним невозможно!
Поэтому любое человеческое стремление к праведности, стремление оправдаться перед Богом своими силами, своим раскаянием за грех, даже своей верой и так далее является проявлением и, более того, осуществлением греха. То есть чем «религиознее» человек, чем серьезнее он принимает заповеди закона Божьего, чем усерднее стремится их исполнять, чем человек в обычном смысле этого слова праведнее, благочестивее, тем явственнее, тем больше становится его грех. Это своего рода замкнутый круг, в который пойманы и в котором мечутся приверженцы почти всех религий, ищущих Бога, стремящихся попасть к Богу своими силами. Не исключение здесь и многие, очень многие христиане.
Как говорит мудрое народное изречение: «Рыба тухнет с головы». Именно самое лучшее в нас и является самым греховным, именно оно больше всего отделяет нас от Бога. Так обстоят дела с праведностью дел. Это та праведность, которую человек пытается достичь своими силами, воспитать или вырастить в себе. Эта праведность, достигни она даже самых недоступных высот этического совершенства, не способна оправдать человека перед Богом, не потому что она недостаточна для Него и Бог требует от человека большего, а просто исходя из того простого факта, что обладающий такой праведностью человек не может целиком и полностью довериться одному Богу, возложить на Него и только на Него все свое упование, поскольку возлагает его на себя.
Возьмем наш исходный пример. Представим себе: молодой человек объясняется девушке в любви. Та же, вместо того, чтобы броситься ему на шею и ответить поцелуем на его слова, начинает судорожно поправлять прическу, подкрашивать ресницы и со всех ног, оставив растерянного друга сидеть на скамейке, бежит покупать в ближайшем книжном магазине учебник по этике, чтобы научиться наконец добродетели. В ответ на признание в любви она обращается не к тому, кто ее любит, а к себе самой. Пусть ее желание лучше соответствовать любви этого молодого человека вполне искренно, пусть она честно стремится стать лучше, но она обращается к себе самой, а не к нему. Она смотрит на себя, а не на него. И это совершенно не то, к чему молодой человек стремился.
Сама суть праведности дел состоит в том, что человек в какой-то мере уповает, надеется, рассчитывает на себя самого, устремляет свой взгляд к себе. Он сам является центром своей жизни, а не полагает этот центр лишь в Боге. Именно поэтому столь любимая многими проповедниками различных конфессий проповедь закона (пусть это будут даже самые «наибожественнейшие» из заповедей) не может помочь человеку, не может принести ему оправдания. Проповедовать закон – это снова и снова обращать внимание человека на него самого.
Самое большое поэтому, на что способен закон – это вогнать человека в беспросветное отчаяние от осознания своего бессилия перед Богом, от осознания невозможности исполнить Его требования и самому добиться праведности и тем самым подготовить человека к безусловному принятию данного от Бога прощения, показать все величие этого прощения. Через подобный опыт прошел сам Лютер. Для него путь к вере лежал через полное отчаяние в себе самом. В этом смысле роль закона может оказаться очень важной. Но только в этом смысле. Путь исполнения закона не является и не может являться путем спасения.
Противоположностью праведности дел и является праведность веры. Сущность ее можно описать так: только верой оправдываемся мы перед Богом, без всяких дел. Эту фразу, пожалуй, знает наизусть почти каждый прихожанин любой протестантской церкви. Однако далеко не все осознают по-настоящему всю революционную новизну этого принципа. Новизну не только по отношению к учению средневековой церкви времен Лютера или к учению многих современных церквей, но и по отношению к обычному образу мышления любого человека, даже самого убежденного протестанта. И здесь, к сожалению, снова нужно повторить уже сказанное: именно даже в протестантизме понимание веры оказывается сильно искажено. Формально исповедуя этот принцип «оправдания только верой», мы, даже будучи протестантами, на самом деле, часто искажаем его, подменяем праведностью дел. Это происходит, например, тогда, когда говорится: католики и православные учат, что Бог спасает и награждает человека за веру и добрые дела, протестанты же учат, что Бог спасает и награждает человека только за веру. Такое утверждение является искажением и упрощением католического или православного вероучения, которое куда более глубоко и серьезно. Но не только. Самое неприятное, что такое утверждение самым грубым образом искажает и протестантское вероучение, вероучение Лютеранской церкви. В таком утверждении вера механически занимает место добрых дел. Получается следующее: вера – это своего рода основа для добрых дел, это питательная почва, из которой они произрастают. Католики и православные утверждают тогда якобы, что одной этой почвы мало, нужны ее плоды, протестанты же, дескать, говорят, что достаточно одной этой почвы. Однако в любом случае речь идет о чем-то, что находится во мне, происходит из меня, совершается мною. В итоге все равно выходит, что Бог награждает нас за что-то, что находится в нас самих, за эту самую «веру». Вера является тогда неким моим внутренним качеством, которым я заслуживаю свое спасение.
И потому неизбежным становится вопрос: «А достаточно ли у меня веры, а достаточно ли сильна моя вера, чтобы мне быть спасенным?» Это очень коварный, опасный вопрос. Он подразумевает, что я сам должен заслужить свое спасение. И так ли уж тогда важно, чем именно: верой, делами, смирением, покаянием или чем-то еще? Спасение становится тогда моим делом и моей заслугой.
Главным же содержанием того прорыва, которым стала Реформация, было, что не мы сами заслуживаем спасение, но оно дается нам исключительно ради Христа, исключительно по милости Божьей. Бог оправдывает нас и спасает нас не потому, что мы совершаем так много доброго, не потому, что мы такие хорошие люди, не потому, что наше раскаяние так искренно и глубоко, а просто потому, что Христос умер за нас. Наше спасение находится не в нас, а во Христе. Не на нас смотрит Бог, когда решает, достойны ли мы спасения, а на Него – так выражается учение об оправдании на традиционном языке протестантской теологии.
Лютера, в соответствии с общепринятым средневековым богословием, когда он был монахом, учили, что только тот будет спасен, кто совершит истинное покаяние за свои грехи. Его же мучил вопрос: «А откуда я знаю, что мое покаяние истинно, что оно достаточно, что оно не продиктовано лишь эгоизмом и страхом наказания?» И, в конце концов, он пришел к ответу, который и стал ответом Реформации: я не знаю, истинно ли мое покаяние, я не знаю, достаточно ли оно. Скорее всего, оно совершенно не истинно и совершенно недостаточно. Но я знаю одно: Христос умер за меня. Этого я и буду держаться. Я буду смотреть не на себя, а на Христа. Ведь в себе самом я не могу быть уверен, но на Христа я могу положиться. Я буду смотреть не на себя самого, а на Христа распятого, только на Него!