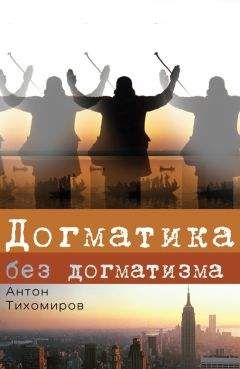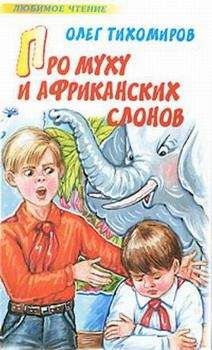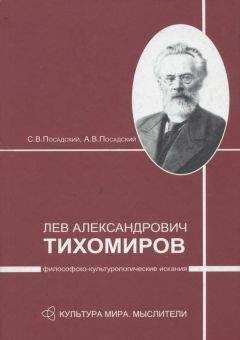Антон Тихомиров - Истина протеста. Дух евангелическо-лютеранской теологии
И здесь нам снова нужно внести некоторые уточнения. Они касаются как раз этого не вполне понятного слова «благодать». Большинство простых верующих и даже богословов практически всех конфессий склонны понимать благодать, как нечто, чем мы обладаем или что получаем, если уж и не как некую субстанцию, что вливается в нас свыше (таковым было понимание средневекового католицизма в его примитивной форме), то уж, по крайней мере, как реальные изменения, производимые в нас Святым Духом. Благодать – это нечто, что действует в нас, что реально нас преображает, что дает нам новые качества. Благодати может быть больше или меньше. Вещи, события, явления, поступки, мысли, люди могут быть «благодатными» или «безблагодатными». Благодать понимается, как нечто, чем обладает Бог и что Он дает нам.
Вот такое более чем распространенное понимание и является, с точки зрения подлинной протестантской теологии, абсолютно неверным. Латинское слово gratia, его греческий эквивалент «харис» и его эквиваленты во многих других языках следует переводить на русский не этим непонятным словом «благодать», а другим, куда более ясным и однозначным словом: «милость». То, что мы традиционно называем благодатью, это не что иное, как милость Бога к нам. Благодать – это не некое наше или ставшее нашим внутреннее качество, а отношение Бога к нам. То, что мы спасены по благодати, означает просто, что Бог смилостивился над нами. Мы спасены не в том смысле, что внутри нас что-то изменилось, а потому что Бог изменил Свое отношение к нам. Поэтому благодать – это нечто, находящееся вне нас, не поддающееся нашему контролю, никак не связанное с нашими чувствами и переживаниями. Благодать, милость – это просто отношение Бога к нам. Она в Боге, а не в нас. Бог к нам милостив, радикально и безусловно милостив, – вот что означает учение об оправдании по благодати.
И теперь нам должен стать понятным смысл одного из самых знаменитых и сложных положений лютеранского вероучения о том, что каждый верующий является грешником и праведником одновременно (simul iustus et peccator). Это учение является, пожалуй, сердцевиной лютеранского вероучения. Именно в нем труднее всего добиться согласия с другими конфессиями. Именно его часто не до конца понимают и сами лютеране. Католический или православный богослов, теологи многих неопротестантских конфессий, скажем, вполне могут согласиться с тем, что мы, верующие, являемся частично грешниками и частично праведниками, что в нас еще остается грех, но уже растет понемногу и праведность. Лютер же, когда предложил свою формулировку, о которой мы сейчас размышляем, имел в виду прежде всего нечто совершенно иное. По его убеждению, мы являемся одновременно и абсолютно грешными, и абсолютно праведными.
Абсолютно грешными мы являемся по своей природе. Все в нас направлено против Бога и противится Ему. Даже самые лучшие наши качества и поступки, в конце концов, как мы видели, проникнуты грехом. Говоря на традиционном языке, все в нас подлежит суду Божьему, все в нас вызывает Его гнев и проклятие. Это нелегко принять. Действительно, кажется, что никто не может быть абсолютно грешен, что в человеке всегда есть хотя бы частичка праведности. Однако, согласно лютеранскому вероучению, это не так. Даже самое хорошее в человеке все равно подвержено греху и даже чем выше, чем лучше какое-то качество в человеке, тем больше в нем греха. Все наши способности, качества, силы и труды – хотим мы того или нет – работают против Бога, и чем лучше, чем эффективнее эти качества и способности, чем они совершеннее, тем лучше, эффективнее и совершеннее их работа против Бога.
И в то же время верующий абсолютно праведен. Но эта наша праведность находится вне нас. Мы остаемся грешниками, но через событие креста мы приняты Богом, причем приняты без всяких условий. Сомневаться в этой нашей праведности, так сказать, из скромности умалять, преуменьшать ее – это значит сомневаться в любви Божьей и умалять, преуменьшать ее. Мы не можем испытать нашу праведность, почувствовать ее, ощутить ее внутри себя, ведь она находится вне нас, вне досягаемости наших чувств. Ее можно принять только верой. Она – это праведность по благодати, праведность по милости. Она, выражаясь на языке традиционного богословия, – это вмененная праведность. Грех – это наше внутреннее качество, наша праведность заключается во Христе, ее мы можем постигнуть только в вере. Наша праведность не в нас самих, а в том, что мы оправданы по милости Бога. Наша праведность в том, что Бог принимает нас в смерти Иисуса Христа. На традиционном языке это описывается так: мы грешны по своей природе, но праведны в глазах Божьих. Можно вспомнить и несколько развить уже приведенный нами образ. Мы – стрела, выпущенная мимо цели. Но случилось невероятное, и сама мишень вдруг подвинулась, чтобы встать так, чтобы мы в нее попали. Мы по-прежнему летим не так как надо, не так, как должны были бы. Но мы в то же время летим прямо в цель.
Здесь можно еще раз привести те лично окрашенные, написанные в период тяжелейших испытаний слова Йохена Клеппера, известного немецкого христианского писателя и поэта XX века, которые стали своеобразным эпиграфом этой книги: «Сможет ли еще взойти звезда в наших сердцах? Не получается ли, что наши звезды заходят, падают, но мы все же знаем, что звезда утренняя восходит над нашим заходом и падением. И падая, погибая из-за нашей собственной и чужой вины, мы не можем ни на чем больше остановить свой взгляд, как на этой утренней звезде, которой в наших сердцах уже больше не взойти»[13]. Погибая из-за греха, не отрывать взгляда от Христа – это и есть вера, оправдывающая человека.
Несколько слов надо сказать и о тех вопросах, которые часто адресуют протестантам. Звучат эти вопросы примерно так: «Не получается ли так, что человек, зная, что он уже оправдан и спасен, полностью откажется от совершения добрых дел и будет пребывать в грехе?» Я очень надеюсь, что после всего вышеизложенного станет ясна полная нелепость таких вопросов. Они пытаются втиснуть все в какие-то жесткие и плоские схемы и потому совершенно не затрагивают подлинной сути дела. Но если какие-либо неясности еще остались, то можно попробовать ответить так: цель учения об оправдании по благодати через веру не в том, чтобы принизить значение добрых дел, а в том, чтобы наконец по-настоящему дать им их истинное достоинство. Подлинное добро – это добро, совершаемое свободно, а не из страха наказания или стремления заслужить награду, или даже стремления самому стать лучше. Подлинное добро совершается не тогда, когда мы думаем о том, какая нам самим польза от совершённого, а тогда, когда мы думаем только о пользе наших ближних. Верующий, освобожденный от необходимости оправдывать себя, теперь может совершать именно такое, в полном смысле этого слова, бескорыстное добро. И, я думаю, никто не будет сомневаться, что в истории Лютеранской церкви и протестантизма вообще можно найти огромное количество примеров таких добрых дел.
Да, христианин должен идти по трудному и узкому пути. С этим Лютер и его последователи вполне согласны. Однако лютеране понимают этот путь совершенно иначе, чем монахи и пуритане всех мастей. Для них этот путь труден и узок потому, что ведет в сторону от мирских соблазнов и радостей, для них это путь, уводящий от мира. Для Лютера речь идет о трудности отвлечься от себя самого, от своих усилий и пустых угрызений совести. Христианин должен обратить свой взгляд единственно на Христа и перестать думать об отдельных прегрешениях, постоянно взвешивая их. Известны, на первый взгляд кажущиеся скандальными, слова Лютера: «ресса fortiter, sed fortius fide et gaude in Christo» – «Греши мужественнее, но еще более веруй и радуйся во Христе». Грех, подлинный грех, не в моральных прегрешениях, не в сексуальной склонности человека – как часто учили в Средние века и как часто все еще думают очень многие – не в мирских удовольствиях, даже не в серьезных проступках. Подлинный грех – это то, что отделяет нас от Бога, само наше состояние после грехопадения. И это состояние теперь преодолено – но преодолено не нашими чистыми и высокими делами, не нашей аскезой, не особенно возвышенной моралью, а только верой во Христа. И если мы веруем, то ничто уже не сможет отделить нас от Бога. Нам отныне не нужно бояться отдельных грехов. Нам не нужно тщательно копаться в каждом нашем поступке: а не совершим ли мы тем самым грех. Нам нужно смело и решительно действовать во благо нашим ближним. Это важный протестантский принцип: поступать не по написанному закону, а по любви. Любовь же очень конкретна, она всегда смотрит на конкретную нужду конкретного человека, а не на некие «вечные» принципы. В этом дарованная нам свобода: свобода служить ближним.
Здесь можно подвести итог. По моему убеждению, лютеранское учение об оправдании, действительно, в корне своем экуменично и стоит по ту сторону всевозможных ограниченных толкований события креста. Оправданным является тот человек, которого захватило событие креста, кто ориентирует на него свою жизнь. Как конкретно проявляется эта захваченность, какие конкретные слова, описания, догмы и вероучения находит человек, чтобы выразить ее, это, в конце концов, не так уж важно. Они всегда будут несовершенными, ограниченными, искаженными, но истинной будет в них сама устремленность ко кресту. Эта устремленность и является той верой, которой человек принимает свое оправдание. Хороший протестантский богослов может распознать эту устремленность, например, в жизни «спасающегося» в пустыне отшельника, хотя сама идея спасения через аскетическую практику глубоко чужда протестантизму и осуждается им. Эта вера, эта захваченность событием креста может жить в самоотверженном служении пренебрегающего столь важными для лютеранина Словом и Таинством солдата Армии Спасения обездоленным, и в постоянном стремлении какого-нибудь мистика к невыразимым переживаниям единения с Богом. Эта же захваченность, несомненно, присутствовала даже и в насквозь этическом, лишенном религиозной чувствительности и вкуса благочестии таких мыслителей, как Лев Толстой, противопоставлявших себя официальной Церкви и ее традиционной проповеди.