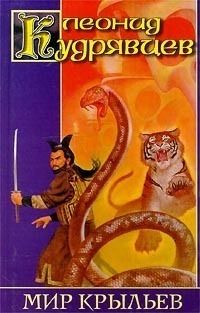Александр Макаров - Паутина
Это и была обитель христиан-скрытников.
По обеим сторонам коридора виднелись дверцы келий, отмеченные иезуитскими крестами. Размашисто и жирно намалеванные кресты казались чугунными и своей грузной тяжестью будто вдавливали дверцы вместе с кельями куда-то в преисподнее бездонье. Келий было шесть, но дверей восемь: седьмая, в конце коридора, более широкая и высокая дверь вела в молельню, и восьмая, ничем не приметная, выводила из подвала в курятник во дворе.
Оглядевшись, старик умилился приятной его душе чистоте и аккуратности. Стенки коридора, дверцы келий, потолок и пол были выскоблены и вымыты добела, по углам и над дверцами топорщились скрещенные еловые ветки, сквозь чистое стекло светильника над дверью молельня просвечивало масло. Однако Прохор Петрович вдруг поморщился: заглушая еловые запахи, откуда-то несло кислятиной, а с мужской половины коридора раздавался клокочущий храп. «Эка дерет сатану, — подумал ревнивый отец. — Жаль, что Минодора не велела будить тебя, а то бы…».
Он постучался ноготком в дверцу крайней от лестницы кельи — она-то и была устроена под домашней печью, через душник сообщаясь с комнатой Минодоры, — и негромко помолитвовался.
— Аминь! — раздался металлический голос Платониды с другого конца коридора. — Я здесь, Прохор.
Старуха в черном хитоне стояла в распахнутой двери молельни. Освещенная сзади мерцанием троесвечника и лампады, уродливая фигура проповедницы показалась даже Коровину зловещим призраком. Отраженный в ее огромных глазах огонек коридорного светильника стал вдруг раздражающе ярким, и, любивший острые ощущения, Прохор Петрович на этот раз почувствовал неприятный озноб.
Он торопливо вошел в молельню и закрыл дверь.
Чуть слышное потрескивание свечей перед полусотней сверкающих медных иконок, жестяная курильница на треножке, струящая сладковатый запах ладана и каких-то кореньев, приземистый аналой под черной парчой с белым крестом по лицевому навесу, пять-шесть толстых книг в деревянных корках на полочке — все это было давно знакомо и привычно Прохору Коровину. Но после залитой солнцем и свежей от обилия цветов комнаты дочери молельня все-таки показалась ему мрачным, глухим погребом; и он возблагодарил судьбу за то, что был только странноприимцем.
— Возносишь? — спросил он Платониду, подавляя в себе чувство невольного трепета перед знаменитой проповедницей.
— Вознесла, — сердито сопя, ответила она, и Коровин уловил злость в ее голосе. — Свечи гасила… Общину не стала будить после нощного непотребия.
— Разрешилась? — снова поинтересовался Прохор Петрович, стараясь ласковым тоном расположить проповедницу. — Мужеска или женска-с?
— Господь узрит, а я, грешница, не доглядела.
— Как тогда в моей обители-с? — напомнил Прохор Петрович известные им обоим давно минувшие дела.
— Не вопрошай всуе!
— Я к тому, чтобы все в аккурате…
— Христос мой покровитель, не ты! — строго прервала Платонида и понизила голос: — Лучше ответствуй мне, чего ради поутру Минодора меня поносила, Платонидкой звала, жабою и ведьмою срамила, братом пресвитером приграживала? Благословенные лестовки и ладоницы мои нереченно порочила… Не сама ли, блудница и лихоимка, подверглася слепоте и обману язычницы Лизаветки и меня предала осмеянию и поруганию диавола? Как в воду зрю, провидя истину! Сказано убо Павлом коринфянам: мудрость мудрецов погублю и разум разумных отвергну. А Минодоре молви: буди она, самарянка и сребреница, глас свой возвысит на мя, елеем Христа помазанную, прокляну вертеп ее и изведу из него странников навечно!
Она, как для удара, вскинула руку к потолку; и от ее яростного взгляда Коровину стало страшно.
— Теперь я почивать пойду, послушников сам разбуди.
Одним дуновением Платонида погасила троесвечник и, подперевшись рукою в бок, поковыляла к выходу. В дверях она обернулась к Коровину и отчетливо строго проговорила:
— Именем местоблюстительницы пресвитера здесь, велю: на послухе Калистрата поставить с Капитолиною. Аминь!
Коровин стоял среди погруженной в сумрак молельни и оторопело глядел на захлопнутую дверь. Хромая, кривобокая старушонка с глазами голодной волчицы, от случая к случаю поднимавшаяся в верхние покои и еще реже общавшаяся и с ним, и с самой странноприимицей, повторила дословно все, что поутру говорила ему Минодора, будто сидела за столом между отцом и дочерью. «Что это, если не ясновидение, не святость? — думал он, ощущая, как сохнет во рту. — Нет, что бы там ни толковал Трофим Фомич Юрков, а святые люди есть, они зримо ходят по земле. Сама сказала: елеем Христа помазанница. Такие словеса всякому не вымолвить, так говорят только по наитию свыше. Вот тебе, раб божий Прохор, и откровение. А ведь знал Платониду, почитай, тридцать годов, по молодости охальничал над ней, подтрунивал: мол, допрыгаешь, Платонида, по тайным обителям, родишь тринадцатого апостола, какого-нибудь Платона! И если бы только подтрунивал, а то ведь сам сгорал от похоти к ней, страстно желал ее как безобразного урода, как чудовище. Слава богу, что отринула! Еще той зимой, когда нарождались колхозы, собирался уморить ее в бане, подложил в угли вереску. Хотел потешиться, наглядеться, как станет хромоножка корчиться возле бани на снегу. Не пошла!.. Неужели тогда уже ясновидела?.. Господи Иисусе Христе, грехи-то какие! Ад ведь, ад без дна и без покрова! Придется прощения просить, благословения вымолить — не согрешивый, мол, не спасется. Да молиться, молиться надо денно и нощно, колени в струпья измочалить, чтобы на лбу короста кровоточила, жёлудем питаться, язвительные вериги надеть, в смертном саване странствовать, да с гробом, с гробом за плечами!»
Коровина с такой силой охватило чувство самоуничижения и подвижничества, что в задумчивости он не заметил, как открылась дверь молельни и на пороге появилась молодая девушка. Глупо ухмыляясь бледным костлявым лицом, она некоторое время смотрела на Коровина, потом звонко шлепнула ладонями по бедрам и прокричала:
— Куд-кудах!.. Прошка, медведь полосатый, чё стоишь да шопчешша?.. Выдь, погляди, куды солнышко-то упороло. Хозяйка придет, чё забает? Буди ораву да айда на двор!
— А-а, Варёнка? Иди-ка, чего скажу…
— Не пойду, ты и подля иконов шшокотишь!
— Полудурье!..
С Коровина мигом слетело благостное настроение. Он подскочил к девушке, стиснул ее обвислое худое плечо в своих пальцах, проворно втащил в молельню и запер дверь.
— Слушай, Варвара, да на ус мотай, — вполголоса заговорил он, не разжимая пальцев, хотя девушка пригибалась все ниже и ниже к полу. — Покуда я Гурию, Неониле да Капитолине во дворе послух даю, ты разбуди Калистрата. Скажи ему, чтобы брал лопату, топор и шел на погреб. Скажи, там Капка ждет… Ну?
— Хозяйка шкуру сдерет…
— Заступлюсь, — значительно произнес Коровин, разжимая пальцы. — А тебе преполную чашку варенья накладу и вот этакий кус хлеба отрежу.
— Омманешь!..
— Но если скажешь Минодоре, медведю отдам!
Девушка вздрогнула всем телом.
— Иди, Варёнка, делай.
Варвара была коми-пермячкой и выросла в прикамских лесах. Ей шел тринадцатый год, когда она, собирая грибы, столкнулась с медведем, и подруги вывели ее из леса повихнувшейся умом. Сирота, она два года жила в доме инвалидов, пока одна из странниц не «спасла ее из рук еретиков» и не сманила с собой. Скрытница привела девушку к Минодоре и вручила добычу странноприимице в качестве подарка. С тех пор Варёнка, зарегистрированная в сельсовете как душевнобольная племянница Прохора Коровина, жила в доме Минодоры девятый год. Узарцы наслышались о ней — об этом неустанно напоминала им сама Минодора, — но редко кто видел девушку вблизи. Говорили — опять же со слов Минодоры, — что «недовольная умом» девка до смертушки боится чужих людей, а как увидит незнакомого, так либо улепетывает без оглядки, либо валится в падучей, но что все Минодорино хозяйство лежит на ней да Прохоре Петровиче. Что Варёнка боится незнакомых, Минодора доказывала на деле, и устраивала это просто. Прохор выводил Варёнку на улицу, садился с ней на лавку возле погреба и ждал появления кого-нибудь из узарцев. С приближением человека ко двору старик шептал: «Медведь!» Варёнка, истошно крича, мчалась во двор и с грохотом захлопывала ворота. Со временем узарцы стали обходить дом Минодоры стороной, разговоры о проживании в доме кладовщицы бродячих людей сошли на нет — где уж там при такой боязни, — а насмерть запуганная Варёнка страшилась выглянуть из ворот. Убедила Минодора узарцев и в том, что по хозяйству работают лишь Варёнка и Прохор. Раза два-три каждое лето старик отправлялся с девушкой в огород, поручал ей какую-нибудь пустяковую работу, показывал кусок сахару и заставлял петь. Варёнка работала и орала. Она пела что-то на своем родном языке дичайшим голосом; и все, кто слышал ее в эти минуты, либо жалостно усмехались, либо затыкали уши и бежали мимо, но все убеждались, что худоумная девчонка и старик работают не покладая рук.