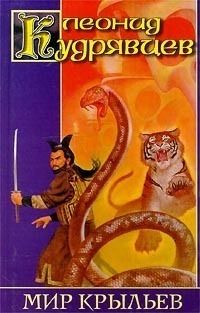Александр Макаров - Паутина
Так Варёнка при помощи старика Коровина служила надежным щитом для проделок странноприимицы.
Маленькая, худая, будто слепленная из сучковатых палок, с белыми и косматыми, как нечесаный лен, волосами, вечно голодная, снующая по дому и двору. Варёнка обладала действительно золотыми руками и какой-то дикой, неистощимой энергией в работе. Беззащитная и безответная, она была здесь рабою рабов.
— Варёнушка, помой мои обутки, — сказала вчера Неонила, передав Агапиту на попечение Платониды. — И одежду почисть. Беленький сухарик подарю… Устала я до смертушки!
Неониле не потребовалось повторять свою просьбу: девушка приняла ее как приказ и немедля сделала все.
Незаменимой оказалась Варёнка и как потешница. Еще в доме инвалидов какой-то негодяй научил девушку непристойным частушкам. Очутившись в узарской обители, она, на свою беду, спела одну из них в присутствии хозяйки. Любительница «остренького», Минодора заставила дурочку петь перед собой. Варёнка получила кусочек сахару и похвасталась, что она знает еще «припевки с картинками». Минодора положила на стол другой кусочек сахару, и дурочка запела с приплясом. Это были частушки с дикарскими кривляниями, насмешившие странноприимицу до икоты. Необычный хохот дочери возбудил любопытство Прохора Петровича. Он приоткрыл дверь из горницы в комнату и долго стоял против щели, пожирая вихляющуюся девушку похотливым взглядом. С тех пор Варёнка превратилась в потешницу для Минодоры и в усладу для старика: странноприимица развлекалась частушками обоего сорта, странноприимец же предпочитал «припевки с картинками». Однако пение и пляска Варёнки для хозяина отличались от развлечения для хозяйки. Если Минодора, натешившись и пропотев до мозга костей, приказывала дурочке тотчас позвать Калистрата, то Прохор Петрович и начинал и кончал дело более тонко. Он выжидал, когда дочь отправлялась на работу, а братство и сестринство — на послух, запасался куском сахару или ломтем смазанного медом хлеба, заманивал Варёнку в молельню, заставлял «играть картинки». Девушка смутно помнила предыдущую игру и сперва отлынивала, затем пыталась напугать старика медведем и даже рычала, ощерив крепкие зубы; но страсть к меду и сахару была в ней сильнее боязни, и она принималась «играть».
Когда дурочка уже еле держалась на ногах, наступала очередь Прохора Петровича. Он бросал сласти на аналой, валил девушку на пол и принимался щекотать, как щекотал кота в горнице и овец в хлеву. Затем он поднимал оцепеневшую девушку на руки и, с трудом шепча молитву, относил в чью-либо келью.
Минодора давно знала о нечеловеческой похоти отца — недаром же в ее родном селе поговаривали, что мать странноприимицы погибла, защекотанная мужем в жаркой деревенской бане, — догадывалась о его «игре» с Варёнкой; но стоило ли шуметь об этом без видимой пользы: пускай потешится старик, дурочки не жалко. Слыхала о проделках своего старого дружка и Платонида — поэтому-то в свое время она и не пошла в натопленную для нее Коровиным баню — и всегда была начеку, избегая оставаться наедине с неугомонным греховодником.
Поставив на послух брата Гурия и сестру Неонилу, — один чистил хлев, а вторая перетрясала и сушила сено, — Коровин вышел из скотного двора и направился под навес, где Варёнка стригла поваленную наземь связанную овечку.
Девушке внушили, будто медведь — так же, как за нею самой, — постоянно охотится за овцами и коровой, и Варёнка до самозабвения любила скотину. Подоив корову, дурочка нередко подолгу ласкала животное, нашептывая в мохнатое рыжее ухо нелепые россказни о злодействах косолапого-полосатого. В ее представлении медведь был полосатым зверем: быть может, таким он показался ей тогда, в осеннем лесу.
Черная овечка лежала перед стоящей на коленях Варёнкой и похрустывала пшеничный сухарик, подаренный девушке Неонилой. Костлявое веснушчатое лицо Варёнки было сосредоточено, кончик языка то выскальзывал, то исчезал в уголке бледногубого рта, ловкие, быстрые руки с тонкими пальцами отщелкивали ножницами клок за клоком, и густая овечья шерсть войлоком отваливалась на подостланную дерюгу.
Коровин с минуту постоял, любуясь аккуратной Варёнкиной работой, потом присел по другую сторону овцы и, потянувшись лицом к девушке, полушепотом спросил:
— Разбудила?
— Ага, — так же ответила Варёнка.
— А где он?
— Обуватца, да одеватца, да умыватца ишшо… Вот уж, куд-кудах, шарашится, медведь полосатый!
Коровин глянул назад и распрямился.
Из дверцы пристроенного к дому курятника вылез человек в коротком пиджаке, крытом вылинявшей синей холстиной, в таких же стеганых штанах и бурых валенках с глубокими кожаными калошами. Он был огромен и страшен: косматый мех черной бараньей шапки будто сросся с его сизой курчавой бородой, а среди этой дремучей растительности торчал длинный мясистый нос. Мужчина обшарил двор настороженным взглядом и, опираясь на железную лопату, как на хрупкую трость, подошел к Коровину.
— Почтеньице Прохору Петровичу, — мягким голосом сказал он.
— Здравствуешь, Калистрат Мосеич.
Глубоко израненное оспой, на редкость свирепое лицо Калистрата просветлело: ему не часто приходилось разговаривать с самим хозяином дома, и никогда еще тот не называл его по имени и отчеству.
— Значится, в погребушку? — заискивающе спросил Калистрат.
— Ежели по охоте-с…
— Благодарствуем, хоша поразомнемся, завсегда рады…
Коровин махнул рукой.
Калистрат, по-медвежьи неуклюже переваливая длинное туловище на коротких ногах, зашагал к погребу, откуда доносилась возня его сегодняшней напарницы Капитолины. Прохор Петрович посмотрел ему вслед и с жалостью подумал: «Дубина стоеросовая, а бесплоден, тьфу! И кому все Минодорино гнездышко достанется?» Оценивающим взглядом он обвел добротные постройки и покачал головой.
Еще покойный муж Минодоры обнес двор высоким и плотным забором, прибив по его гребешку доски с щетинкой гвоздей: удалившись от деревни на высокий пригорок, богатый мужик боялся воров. Минодора старательно поддерживала постройку ремонтом, более всего заботясь о том, чтобы не оказалось щелей и дыр ни в заборе, ни в воротах. Двор был надежной крепостью странноприимицы и укромным гнездом всякого рода скрытников; но ходы, лазейки и тайные запоры в этой крепости знал лишь тот, кому Минодора бесспорно доверяла.
Коровин всегда любовался хоромами дочери, но сейчас, вспомнив разговор с Платонидой в молельне, лишь горько усмехнулся: зачем ему думать о бренном и тленном, если он решил не теряя ни минуты предать себя в руки Христа-бога? Его душу сейчас должно смущать только одно: как сообщить Минодоре об откровении Платониды, какими словами передать свое искреннее убеждение в святости проповедницы?
Размышляя, Прохор Петрович вышел за ворота; когда скрытники работали во дворе, в обязанности старика входило сидеть на улице и наблюдать. Сам он не шутя называл это псиной службой, а дочь новым словом — бдительность: такая предусмотрительность ограждала двор от нежелательных и случайных посетителей.
Усевшись на лавочку возле стенки погреба, Прохор Петрович собрался было дать волю своим святым мыслям, но уже через минуту из его головы словно выдуло и ясновидение Платониды, и его собственные подвижнические замыслы. Сначала он услышал осторожное покашливание Калистрата, затем глухие удары то ли топора, то ли железной лопаты, видимо, о мерзлый грунт и, наконец, едва различимый голос Капитолины:
— А ты зубами, зубами… Вон они у тебя какие, как у каркадила на картинке!
Капитолина так же негромко засмеялась, но Коровин еле сдержался, чтобы не постучать в стенку, — что если бы он не сидел здесь на карауле и кто-нибудь шел бы мимо да услышал этот смех?.. Недаром они с Минодорой ненавидели эту взбалмошную девчонку, и будь сейчас в их обители другие странники, ей бы немедля указали на дверь. Но община скрытников давно и заметно поредела: изменились времена, изменились люди, сейчас рад и такой свиристелке. Приходится удивляться Платониде — что хорошего, благочестивого, ну хотя бы разумного, нашла она в этой девчонке, приобщив ее к христолюбивому сестричеству? Воспитует девку на евангелии да библии, ждет пресвитера, чтобы крестить нечестивицу в священное странствие, имя ей из древлих приготовила… Зачем это, на что надеется, что провидит? Теперь одно ясно: святая зря не набросится, провидит какую-то пользу себе и общине. А в общем-то девчонка как девчонка, вся на теперешних схожа. Ни велика, ни мала, но кругла, даром что, кроме редьки с луком да ячменной каши, ничего не видит. Волосенки, как помятая ржаная солома, к тому же стрижена. Лицо, все равно что у всех русских девок, белое с розовинкой. Глаза будто синькой смочены да лаком крыты. Рот только и закрывает, когда ест да губы лижет, а в остальное время языком молотит, хотя и невеста семнадцати годов, — ну какая это странница? А пуще всего — платье. Оно будто и черное, и сшито без затей, и даже заплатки на локтишках, но уж если из-под подола коленки видать да ремнем с железной бляхой подпоясано, — на что похоже?!