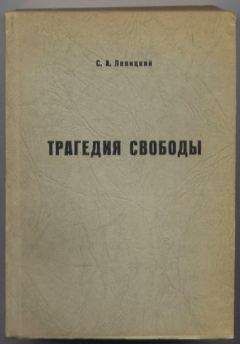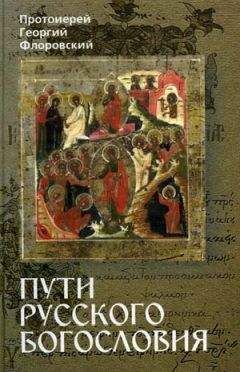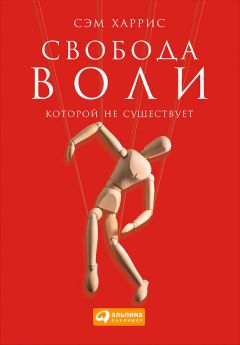Прот. Георгий Флоровский - Пути Русского Богословия. Часть II
Этот дар «всемирной отзывчивости», во всяком случае, роковой и двусмысленный дар. Повышенная чуткость и отзывчивость очень затрудняет творческое собирание души. В этих странствиях по временам и культурам всегда угрожает опасность не найти самого себя. Душа теряется, сама себя теряет, в этих переливах исторических впечатлений и переживаний. Точно не поспевает сама к себе возвращаться, слишком многое привлекает ее и развлекает, удерживает в инобытии. И создаются в душе какие-то кочевые привычки, — привычка жить на развалинах или в походных шатрах. Русская душа плохо помнит родство. И всего настойчивее в отрицаниях и отречениях…
Принято говорить о русской мечтательности, о женственной податливости русской души… В этом есть известная правда…
Но источник болезни не в том, что пластичная и легкоплавкая «стихия» природной жизни не была скреплена и охвачена «логосами», не окристаллизовалась в культурном делании. Нельзя русский соблазн измерить и исчерпать в таком натуралистическом противопоставлении «природы» и «культуры». Этот соблазн рождается уже внутри культуры. Вообще сказать, «народный дух» есть не столько биологическая, сколько историческая и творимая величина. Народный дух созидается и становится в истории. И русская «стихия», это совсем не врожденный «аффект [162] бытия», не тот «древний хаос», природный и родимый, еще не прозревший, еще не просвещенный и не просветленный умным светом. Это хаос новый и вторичный, хаос исторический, хаос греха и распада, падения, противления и упорства, — душа потемненная и ослепшая. Русская душа поражена не только первородным грехом, отравлена не только «природным дионисизмом». [163] Еще более обременена она своими историческими грехами, яже ведением и неведением. «Студных помышлений во мне точит наводнение тинное и мрачное…»
Действительный источник русской болезни не в этой «естественной» текучести народной стихии, скорее в неверности и непостоянстве народной любви… Только любовь есть подлинная сила синтеза и единства. И вот, русская душа не была тверда и предана в этой своей последней любви. Слишком часто заболевала она мистическим непостоянством. Слишком привыкли русские люди праздно томиться на роковых перекрестках, у перепутных крестов. «Ни Зверя скиптр нести не смея, ни иго легкое Христа…»
И есть в русской душе даже какая-то особенная страсть и притяжение к таким перепутиям и перекресткам. Нет решимости сделать выбор. Нет воли принять ответственность. Есть что-то артистическое в русской душе, слишком много игры. Душа растягивается, тянется и томится среди очарования. Но очарование не есть любовь. Не любовь и любование. Укрепляет только жертвенная и волевая любовь, не накат страсти, не медиумизм тайного сродства. Но не было в русской душе именно этой жертвенности, не было этого самоотречения перед истиной, этого последнего смирения в любви. Душа двоится и змеится в своих привязанностях. И позже всего просыпается в русской душе логическая совесть, — искренность и ответственность в познании.
Два соблазна зачаровывают русскую душу. Соблазн священного быта, это соблазн древней Руси, соблазн «старообрядчества», оптимизм христианского устроения на исторической земле, — и, как тень, за ним следует апокалиптическое отрицание в расколе. И соблазн пиетического утешения, этот соблазн новой «интеллигенции», западнической и народнической, в равной мере. По своему это тоже бытовой соблазн, очарование душевного уюта. Нет творческого приятия истории, как подвига, как странствия, как дела…
В русском переживании истории всегда преувеличивается значение безличных, даже бессознательных, каких-то стихийных сил, «органических процессов», «власть земли», точно история совершается скорее в страдательном залоге, более случается, чем творится. «Историзм» не ограждает от «пиетизма», потому что и сам историзм остается созерцательным. Выпадает категория ответственности. И это при всей исторической чувствительности, восприимчивости, наблюдательности…
В истории русской мысли с особенной резкостью сказывается эта безответственность народного духа. И в ней завязка русской трагедии культуры…
Это христианская трагедия, не эллинская античная. Трагедия вольного греха, трагедия ослепшей свободы, — не трагедия слепого рока или первобытной тьмы. Это трагедия двоящейся любви, трагедия мистической неверности и непостоянства. Это трагедия духовного рабства и одержимости…
Потому разряжается она в страшном и неистовом приступе красного безумства, богоборчества, богоотступничества и отпадения… Потому и вырваться из этого преисподнего смерча страстей можно только в покаянном бдении, в возвращении, собирании и трезвении души… Путь исхода лежит не через культуру или общественность, но через аскезу, через «внутреннюю пустыню» возвращающегося духа …
2. Ересь новых гносимахов. Ненужное богословие.
В истории русского богословия чувствуется творческое замешательство. И всего болезненнее был этот странный разрыв между богословием и благочестием, между богословской ученостью и молитвенным богомыслием, между богословской школой и церковной жизнью. Это был разрыв и раскол между «интеллигенцией» и «народом» в самой Церкви…
Как это произошло и почему так случилось, рассказано было уже раньше. Остается только еще раз напомнить: этот разрыв (или отчуждение) был вреден и опасен для обеих сторон. И это так характерно сказалось в недавней «Афонской смуте» (1912–1913 г.г.), [164] в спорах о именах Божиих и о молитве Иисусовой…
Богословская наука была принесена в Россию с Запада. Слишком долго она и оставалась в России чужестранкой, даже упорствовала говорить на своем особенном и чужом языке (и не на языке житейском, и не на языке молитв). Она оставалась каким-то инославным включением в церковно-органическую ткань. Богословская наука развивалась в России в искусcтвенной и слишком отчужденной среде, становилась и оставалась школьной наукой. Превращалась в предмет преподавания, переставала быть разысканием истины или исповеданием веры. Богословская мысль отвыкала прислушиваться к биению Церковного сердца. И теряла доступ к этому сердцу. Она не привлекала внимания или сочувствия в более широких кругах церковного общества и народа. В лучшем случае она казалась ненужной. Но часто непонимание осложнялось и мнительным недоверием, и прямым недоброжелательством. И у многих верующих создавалась опасная привычка обходиться без всякого богословия вообще, заменяя его кто чем — Книгой правил, или Типиконом, или преданием старины, бытовым обрядом, или лирикой души. Рождалось какое-то темное воздержание или уклонение от знания, своего рода богословская афазия, неожиданный адогматизм и даже агностицизм, мнимого благочестия ради, — ересь новых гносимахов. И худо было не то только, что при этом оставались и оставлялись под спудом духовные богатства, накопленные и собранные в умном бдении и молитвенном искусе, — иногда и сокрывались, утаивались нарочито. Но эта гносимахия угрожала и самому духовному здоровью. В самом духовном делании, и в келейной молитве, и в литургической соборности, всегда остается соблазн и опасность психологизма, соблазн принять и выдать душевное за духовное. Этот соблазн может обернуться обрядовым или каноническим формализмом, или ласкательной чувствительностью. Всегда это прелесть. И от такого прельщения ограждает только богословский искус, зоркость, четкость и смирение богословствующего ума. Бытом или канонами от прелести не загородиться. Душа вовлекается в игру мнимостей и настроений…
В таком психологическом контексте недоверие к богословию становилось вдвойне злополучным. Богословское искание не могло найти почвы для себя. И вне богословской поверки русская душа оказывалась так странно нестойкой и беззащитной в искушениях…
С Петровских времен «благочестие» было как-то отодвинуто туда, в социальные низы. Разрыв между «интеллигенцией» и «народом» прошел ведь именно в области веры. Верхи очень рано заразились и отравились неверием или вольнодумством. Веру сохраняли на низах, чаще в суеверно-бытовом обрамлении. Православие осталось верой только «простого народа», купцов, мещан и крестьян. И многим стало казаться, что вновь войти в Церковь можно только через опрощение, через слияние с народом, через национально-историческую оседлость, через возвращение к земле.
Возвращение в Церковь слишком часто смешивалось с хождением в народ. Этот опасный предрассудок одинаково распространяли и несмысленные ревнители, и кающиеся интеллигенты, простецы и снобы. Уже славянофилы были в этом повинны. Ибо в славянофильском истолковании сама народная жизнь есть некая естественная соборность, и община или «мир» есть точно зародышевая Церковь. Потому именно через народ только и можно вернуться в Церковь. И до сих пор слишком многим некое народничество представляется необходимым стилем истового православия. «Вера угольщика» или старой нянюшки, или неграмотной богомолки, принимается и выдается за самый надежный образец или мерило. О существе православия казалось более правильным и надежным допрашивать людей «из народа», чем древних отцов. И потому богословие почти что вовсе вычиталось из состава «русского православия». Ради благочестия принято даже теперь говорить о вере каким-то поддельным, мнимо народным, неестественным, жалостным языком. Это самый опасный вид обскуратизма, в него часто впадают кающиеся интеллигенты. Православие в таком истолковании часто обращается почти что в назидательный фольклор…