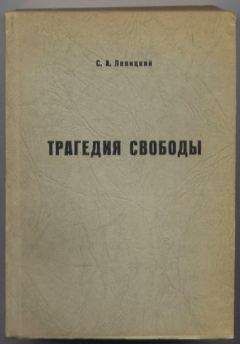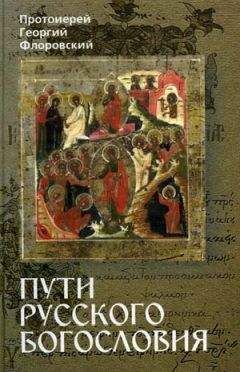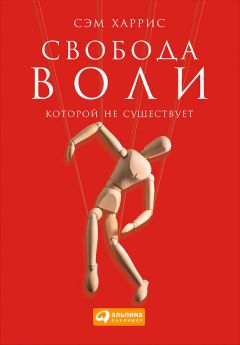Прот. Георгий Флоровский - Пути Русского Богословия. Часть II
Для тогдашних лет характернее другие книги Булгакова: его «Два Града» (1911) и особенно «Философия хозяйства» (часть I, Мир, как хозяйство, М. 1912). В духовном развитии Булгакова решающим было влияние Влад. Соловьева, и от него основная тема или схема всей его системы, — учение о Софии. В нем он встречается и с Флоренским. С Соловьевым же связана и вся проблематика религиозной или церковной культуры, христианского делания в истории, очень характерная для Булгакова. От Соловьева путь назад к Шеллингу и к неоплатоникам, но и к патристике, к опыту Великой Церкви, в историческую Церковь, в Церковь предания и отцов. Власть немецкой философии очень чувствуется и у Булгакова, острое влияние Шеллинга в его хозяйственной философии, и даже влияние Кантовского трансцендентализма в самой постановке религиозно-философской проблемы в «Свете Невечернем» («Как возможна религия?»), ограниченность романтического кругозора в религиозной натурфилософии, неудержимый крен к «философии тожества». Но от религиозной философии Булгаков уверенно возвращается к богословию. В этом его историческое преимущество, в этом его сыновняя свобода…
Самым характерным памятником предвоенной эпохи остается известная книга о. П. Флоренского, «Столп и утверждение истины» (1914). И в ней всего резче сказывается вся двусмысленность и неустойчивость религиозно-философского движения…
Книга Флоренского намеренно и нарочито субъективна. И не случайно она построена в типе дружеской философской переписки. Это, конечно, литературный прием. Но он очень тонко передает саму тональность духовного типа, — Флоренскому так и подобает богословствовать в письмах к другу. Слишком у него силен пафос интимности, пафос психологического эзотеризма, почти снобизма в дружбе. Флоренский много говорит о церковности и соборности, но именно соборности всего меньше в его книге. Это книга очень самозамкнутого писателя. В его размышлениях и рассуждениях всегда чувствуется одиночество. От него он может освобождаться только в дружбе, в каком-то романтическом «братотворении» или побратимстве. И сама соборность Церкви распадается для него в множественность интимных дружественных пар, и двуединство личной дружбы психологически для него заменяет соборность. Он живет всегда в каком-то укромном уголке, и там хочет жить, в таком эстетическом затворе. Он уходит с трагических распутий жизни, укрывается в тесную, но уютную келию. Впрочем, в свои ранние годы он участвовал в «Христианском союзе борьбы», в этом странном опыте религиозно-мечтательного революционерства…
Истории Флоренский не чувствует, он не живет в истории, у него нет исторической перспективы, у него нет органического чутья процесса. В историческом прошлом он чувствует себя как в музее, он в нем эстетически наслаждается, любуется, созерцает, и всегда по личному выбору или вкусу. Флоренского упрекали в пристрастии к теологуменам, к частным богословским мнениям. И это очень важное наблюдение. К теологуменам у него, действительно, больше вкуса, чем к догмату, слишком соборному, для всех, слишком громкому и явленному, — а он предпочитает неясный шепот личного мнения…
И тот опыт, о котором Флоренский говорит в своей книге, есть именно опыт психологический, поток переживаний. На словах он отрекается от себя, даже от своего, и обещается только передавать общее, всецерковное. Но делом он опровергает свое слово. Он всегда говорит именно от себя. Он остается субъективным и тогда, когда хотел бы быть объективным. И в этом его двусмысленность. Книгу личных избраний он выдает за исповедь соборного опыта. Есть очень явственный налет богословской прелести, на всех построениях Флоренского… Есть в книге Флоренского загадочная неувязка: точно два несоизмеримых отрывка насильственно синтегрированы в одно целое. Книга Флоренского начинается письмом о сомнениях. Путь к истине и начинается даже не просто сомнением, но прямым отчаянием, начинается в каком-то пирроническом огне. И вот в мучительном лабиринте где-то неожиданная внезапно вспыхивает молния откровения (Флоренский отмечает свою близость в этом вопросе к арх. Серапиону Машкину и его неизданной книге)…
Здесь можно было бы вспомнить и Паскаля…
О каком же опыте и пути идет здесь речь? О трагедии неверующей мысли? или о диалектике христианского сознания? Во всяком случае вопрос так поставлен, точно самое важное спасаться от сомнений. И получается впечатление, что неизбежно приходить к Богу через сомнения и отчаяние. Вся религиозная гносеология Флоренского почти сводится к проблеме обращения. Дальше он не идет: как возможно познание? И вопрос звучит психологически: Флоренский все сводит к переживанию. Книга начинается в тонах кантианского скепсиса и полускепсиса. И к Канту же Флоренский примыкает в своем интересном учении об антиномиях. Самая истина оказывается для Флоренского антиномией…
Но вот, вся вторая половина книги написана в тонах платонизма и онтологизма. Как же сочетать и согласовать пирронизм и платонизм, антиномизм и онтологизм? Учение о Софии и о софийности творения означает сплошную логичность мира, в котором поэтому невозможны антиномии, по самому заданию. Ибо разум должен быть адекватен и соизмерим бытию. На чрезмерность антиномизма у Флоренского в свое время обратил внимание Евг. Трубецкой, но своих возражений он не развил до конца. Одно он верно отметил: этот антиномизм у Флоренского есть только «непобежденный скептицизм, раздвоение мысли, возведенное в принцип и норму». Но в христианстве разум «подвергается преображению, а не искалечению…»
София, по определению Флоренского, есть «ипостасная система миротворческих мыслей Божиих». Как же тогда последней тайной мысли оказывается не система, но антиномия?… Учение о грехе не разрешает этой апории. [159] Ибо антиномично, по Флоренскому, не только слабое и греховное сознание, но и самая истина, — «Истина есть антиномия». Выбор между «да» и «нет» оказывается вообще невозможным. Почему же и христианский разум остается в плену и отравлен незнанием? Странным образом, говоря о Софии и софийности, Флоренский никогда не вспоминает об антиномиях…
От сомнений разум спасается в познании Святой Троицы, об этом Флоренский говорит с большим увлечением и раскрывает спекулятивный смысл Троического догмата, как истины разума. Но странным образом, он как-то минует Воплощение, а от Троических глав сразу переходит к учению о Духе Утешителе. В книге Флоренского просто нет христологических глав, и «опыт православной теодицеи» [160] строится как-то мимо Христа. Образ Христа, образ Богочеловека какой-то неясной тенью теряется на заднем фоне. И не оттого ли так мало радости в кииге Флоренскаго, и вся красота его построений есть только осенняя, умирающая, унылая красота. Ибо Флоренский не столько радуется о пришествии Господнем, сколько томится в ожидании Утешителя, в чаянии Духа. Томится, и не радуется пришедшему ведь Утешителю, но жаждет большего. И точно не чувствует неотступного пребывания сошедшего Духа в мире, — церковное ведение Духа кажется ему Смутным и тусклым. Откровение Духа чувствует он только в немногих избранниках, но не в «повседневней жизни Церкви». Точно еще не совершилось спасение: «чудное мгновение сверкнуло ослепительно и… как бы нет его». Точно мир все еще остается темным, и «только извне озаряют его какие-то еще не греющие, предраcсветные лучи». В книге Флоренского удивительно мало сказано о таинствах. Флоренский не в свершении, но в ожиданиях…
Сердце томится о небывалом, и потому Флоренскому грустно в истории: некая истома грусти овладевает им и душа вся вытянута к еще не наступившему мигу. Какие-то неожиданные перепевы не то Мережковского, не то Новалиса. [161] И здесь невольно припоминается одно из ранних стихогворений А. Белого, посвященное П. А. Флоренскому («Священные дни», 1901), — «Тоска! О, внимайте тоске, мои братья! Священна тоска в эти дни роковые!»…
Эпиграфом взято Мрк. 13:19: «ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения»…
В свои ранние годы и Флоренский писал стихи, и вот они удивительно напоминают А. Белого, особенно его сборник: «Золото в лазури». «Воздух все реже. И пьянно качаясь, кружится мир, накреняясь»… Здесь было единство лирического опыта…
Во «втором завете» Флоренскому как-то тесно и душно. Ведь Логос есть именно «всеобщий закон мира». И потому откровение Второй Ипостаси не освобождает мира, — напротив, заковывает его в закономерность. Откровение Логоса для Флоренскаго обосновывает научность, потому христианский мир есть мир суровый, мир закона и непрерывности, и еще в нем не открывается красота и свобода. И остается неясным, что же означает для Флоренского Пятидесятница. Он ждет именно нового откровения, а не только исполнения. И ждет в конце времен не Второго Пришествия Христова, но Откровения Духа… Во всяком случае, Флоренский не чувствует и не оговаривает абсолютности Новозаветного Богоявления. Оно точно его не насыщает, и он все томится и ждет. Роковая отрава романтизма владеет им…