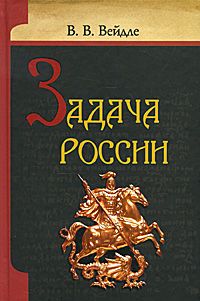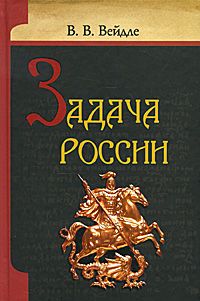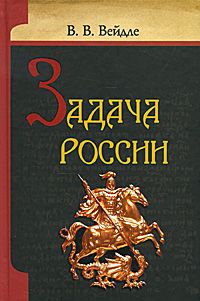В. Вейдле - Эмбриология поэзии
Независимо от мимезиса, хоть и в тесной связи с самой возможностью его, поэт ищет в слове его смысла, а не его значения. «Смысл» и «значение», в нашем языке, как и родственные слова в других языках, не разграничены достаточно ясно; однако можно под смыслом понимать то, что непосредственно открывается в слове, включенном в живую речь, помимо его отнесенности к вещам и фактам (мыслимым отдельно от восприятия или переживания их), а под значением — как раз эту отнесенность. Вещи и факты мы обозначаем сквозь понятия. Существуют слова, только и пригодные для такого обозначенья, это имена понятий, термины; в поэзии они неприменимы без иронического или эмфатического осмысления их. Но большинство слов пригодны как для обозначения понятий, так и для выражения своего смысла, который может очень далеко отстоять от соответственного понятия, и может приближаться к нему, никогда с ним однако не совпадая. Лесоводство знает понятие «лес», выцеженное из смысла слова «лес», посредством изъятия из него всего, что позволяло бы обозначенное им облечь в «багряный убор», да еще сказать, что оно этот убор «роняет». «В багрец и золото одетые леса», это те же, да не те, что поставляют сырье лесопильным заводам; для топора те же, для языка не те: я именую их тем же словом, но одни через его смысл, а другие через его значение. Уже самый стих заботится о том, чтобы понятия не встречались в стихах: значение слов он подменяет их смыслом. Когда Ломоносов рифмует химию с Россией, он так же далеко отводит ее от химии, как Россию от географии. Однако, в пушкинской строке помогают этому и метафоры. Понятие «лес» знать ничего не знает о лесах одетых, и еще того меньше о лесах одетых в золото. Метафоры, как и все тропы, тому прежде всего и служат, чтобы сказанное воспринималось со стороны своего смысла, а не значения. Но из этого отнюдь не следует, чтобы тропы или «образные выражения» по самой своей природе отличались бы от других слов, применяемых в стихах. Между метафорами и не–метафорами нельзя даже провести вполне строгую границу, как показывает слово «багрец» в той же строке, царственность, пурпурность и трагичность которого (через Евангелие) поэтом, конечно, учтены, но которое — с натяжкой — можно принять и за простое обозначение определенного цвета. Слово «леса» и без натяжки можно было бы непоэтически понять, тогда как счесть, в этой связи, одежду одеждой или принять золото за чистую монету, было бы и вовсе невозможно. В этом вся — скользящая — разница и есть. Ею дифференцируются, внутри поэзии, поэтические стили. В разговорном языке метафоры потушены, значения и смыслы перемешаны (оттого‑то он так неясно и разграничивает слова «значение» и «смысл»). Пушкин не любит применять резких средств для отсеиванья смысла, не зачеркивает значений, чем и создает иллюзию простоты. Он не проще, а хитрей многих других поэтов.
Смысловые, поэтические слова тем отличаются от понятий, что сливают общее и частное, и не прикрепляются к отдельным предметам. Они всегда невещественны и всегда конкретны; это значит, что наши обычные взгляды на абстрактное и конкретное к ним не применимы. Как для первобытной мысли, создающей язык, для поэтической существуют сходства, приводящие к тождеству, а не условная одинаковость предметов, «входящих» в понятия. В логике научного мышления, которую мы считаем логикой вообще, чем понятие уже, тем оно богаче признаками, а для поэзии «антрацит» куда беднее, чем «уголь», если не признаками (их поэзия не знает), то смыслом, — из чего сразу и видно, что она имеет дело не с понятиями, а со смыслами. Объем понятия роли при этом не играет. «Гранит» не богаче, но и не беднее смыслом, чем «камень»; зато на много бедней обоих и «кварц», и «минерал». Это касается даже и таких слов, у которых и вне поэзии есть только смысл, а не значение; не–поэтическая мысль превращает их смысл в понятие; поэзия этого не делает. Поэтому любовь для нее не разновидность симпатии (как для Шелера) и не сублимация похоти (как для Фрейда), да и не видит она в ярости степень гнева, не сводит качества к количеству. Там же, где у слова есть и значение, и где поэт не вьггравил его из слова, пригодность слова для поэзии и действенность его определяются все же смыслом. В прелестном, хоть и немного эклектическом стихотворении А. К. Толстого
Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты.
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты…
«тайна» означает маску; это объяснила юной Зинаиде Гиппиус вдова поэта. Однако, для поэзии, это столь же безразлично, как то, что «ты» означает С. А. Миллер; а поэзия этих стихов именно на «тайне» и держится; замените ее «маской» и вы поэзию убьете. Недаром Лермонтову («Из‑под таинственной холодной полумаски…») пришлось двумя эпитетами обеззначить и осмыслить это слово, которое рифмой «глазки» сумело‑таки ему отомстить. И пусть Державин, в пояснениях к своим стихам, велит нам «звезды» одной своей оды прицеплять к мундирам; мы просим прощенья, но назвал он их звездами: этого довольно, чтобы вернуть их небу, а может быть и небесам.
Предлагаем ли мы, приводя этот пример, понимать стихи наперекор намеренью поэта? Нисколько; но следует различать то, что он говорит ими как поэт, от того, что ему хотелось бы ими высказать в порядке обычной речи, смешивающей смыслы и значения. Такое различение часто, хоть и не всегда, совпадает с отмежеванием того, что ему удалось поэтически высказать от того, что ему, как поэту высказать не удалось. Мотивы высказыванья, как житейские, так и литературные (вослед традиции или вопреки ей) тут значения не имеют; дерзость так же может привести к неудаче, как покорность, и наоборот. Но то, что высказано в слиянии звука и смысла, то высказано навсегда, — оттого‑то и остаются иногда от поэтов отдельные строчки. Неувядаемо мил у Джона Шеффилда, герцога Бэкингемского или, как его долгое время именовали, Бэкингемширского, первый стих его мадригала
Like children in a starry night [219],
а дальше мы узнаем, что упомянул он о детях в звездную ночь лишь для сравненья: как они не понимают могущества звезд, так он когда‑то не понимал могущества глаз своей возлюбленной. И если, относительно двух последних и самых певучих стихов поэмы Виньи «Дом пастуха», комментатор поучает нас, что первый из этих стихов проистекает из неверно переведенной фразы Шекспира («As you like it» IV, 1), а второй имеет в виду замужнюю женщину (г–жу Ольмез), чья любовь вследствие этого и была «угрожаема и молчалива», разве мы не скажем ему: «внимай их пенью и молчи», когда прочтем:
Pleurant, сошше Diane au bord de ses fontaines, Ton amour taciturne et toujours menace [220].
зНезаметно мы перешли от смысла слов к смыслу словосочетаний и целых стихов или цепи стихов. Все это взаимообусловлено, и одно от другого неотделимо. Выражаясь немного педантично, можно сказать, что стихотворный синтаксис так же подчинен мимезису и звукосмыслу, как и стихотворная (или поэтическая вообще) лексика. Грамматика, если не включать в нее синтаксис, остается неприкосновенной, поэту не прощается незнание собственного языка, и значение слов даже меньше пострадает, чем их смысл, от ошибки в спряжениях или склонениях. Но, конечно, все смысловые оттенки времен, наклонений, падежей столь же внимательно используются им, как смысловые оттенки слов, которые он своему стиху препоручает. Все это заживет в стихе жизнью стиха, но с этой жизнью стиха синтаксис связан еще теснее, и как раз потому с ним вольней обращается поэт. Он его и не видит иначе, как сквозь интонацию и ритм, да и мы сами, когда говорим о затрудненном синтаксисе некоторых стихотворений Баратынского, ни о чем другом не высказываем суждение, как о их интонации и ритме. Оттого‑то инверсии и другие нарушения обычного порядка слов допускаются в стихах даже теми языками, в которых порядок этот регламентирован строже, чем в нашем языке. Но было бы наивно думать, что такие «поблажки» определяются трудностью «втиснуть в строчку» враждебный метрике словесный материал. Стихотворный синтаксис, как и всякий другой, подчиняется смыслу, но именно смыслу, больше чем значению слов и предложений, и звукосмыслу, а не смыслу, для которого не важен звук. Поэтому соседство слов существенней бывает для него — не только из‑за звука, как многие думают, но и по смыслу или звукосмыслу — чем их синтаксическая связь (в качестве подлежащих, сказуемых, прямых дополнений, определений), еще и обозначаемая нередко союзами или предлогами, которым придать выразительность бывает трудно, а то и невозможно. Малларме, в поздних стихах, постоянно их выбрасывая и почти отказавшись от знаков препинанья, заметно приближался к устранению разницы между частями предложения, если не между частями речи; это был рискованный вывод из посылок вполне правильных. Смысл поэтической речи— особый; оттого и проявляться, члениться он должен особым образом.
Весь вопрос тут лишь в том, возможно ли совсем освободить слова от их значений, сохранив их смыслы и связав их друг с другом одними этими — зазвучавшими, слившимися со звуком — смыслами. О том, чтобы обойтись одними звуками не может быть и речи; об этом мечтали и мечтают только люди очень уж простодушные. Но и на серьезный вопрос, поставленный редкостно одаренным и умевшим отчетливо мыслить поэтом, ответ, после многих лет и бесчисленных экспериментов, получается все же отрицательный. Синтаксис, как бы он ни стушевывался или ни размягчался, совсем исчезнуть из поэзии не может, потому что она — не слова, а слово, не «набор слов», пусть даже и выражающих с предельной полнотой свои или присущие небольшим словесным гнездам смыслы, а живая, связная, осмысленная речь, чья осмысленность предрешает те отдельные смыслы, создает или воссоздает их, а не получается из их сложения. И как раз поскольку такая речь с самого начала исходит из смыслов, поэт постоянно мыслит ими, так что из них возникает уже и замысел его стихов, ему нет надобности устранять внешнюю близость их к значениям, будь то в отдельных словах, будь то в способе сочетания этих слов. Только в такие времена как наши, когда язык, вне поэзии, тяготеет к изгнанию смыслов и замене их сигнализацией и словесными ярлыками, наклеенными на понятия или псевдопонятия, чувствует поэт — и все сильнее — потребность защитить поэзию, оградить ее ото всего, что вокруг него, а главное в нем самом, ей препятствует и ее отрицает. Лучше, чем когда‑либо, он знает ее приметы, и он ищет к ней пути, исходя из них; оттого, сквозь слова, иногда и не слышно у него слова. Но не потому, чтобы он ошибался в приметах. Смысл стихов, а не только слов в стихе, был во все времена особым смыслом.