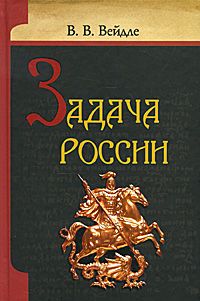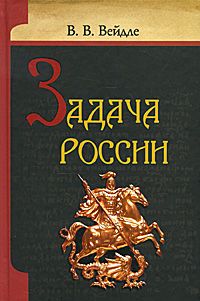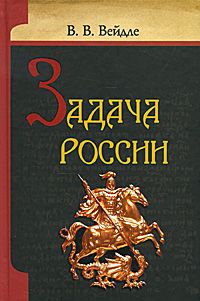В. Вейдле - Эмбриология поэзии
Смерть, трепет естества и страх!
хоть никаким звукам этот стих и не «подражает», а только собственным звучаньем — этим «тр» после «рть», которому отвечает на расстоянии другое «тр», этими «см», «ст», «ст», этими четырьмя «е», вслед за тем «е», что звучит посреди согласных «смерти» — помогает смыслу этого слова «смерть» отожествиться с его звуком, воплотиться в этот звук, восполняет плоть, требуемую для такого воплощенья. Подражания, приводящего к воспроизведенью, нет, впрочем, и в том первом стихе: мы в нем слышим колокол (но и «глагол времен»); с колокольным звоном мы его не спутаем. Но в обоих случаях есть то, чему нет имени в наших языках, с тех пор как имя это исчезло, две с половиной тысячи лет тому назад, когда греческое слово «мимезис» утратило свой первоначальный смысл и стало значить более или менее то же, что наше «подражанье» или (копирующее) «изображенье». Первоначально же укоренено было оно в дионисической культовой пляске и мимическом действе, исполнитель которого являл в себе бога, перевоплощался в него, вследствие чего слово это и значило изображение неотделимое от выраженья (актер или танцовщик не может ничего изобразить, чего он одновременно не выражает) и стремящееся к отожествлению с тем, что выражено и изображено»[216][217]. За пределами культа— и театра— это отожествление переставало быть персональным; греки о мимезисе говорили применительно к танцу, пению, музыке, поэзии, но лишь после снижения этого слова стали применять его к другим, музам, по их мнению, не подведомственным искусствам (к живописи и скульптуре); я же думаю, что он лежит в основе всех искусств, и, больше того, в основе языка, а значит, тем самым уже, и в основе словесного искусства.
Язык наш, как раз в том, что отличает его от сигнализации, доступной и животным, не из чего другого не мог возникнуть, как именно из артикуляционного или звукового (поддержанного еще и мимикой лица и рук) уподобления тому, что требовалось высказать. — Из ономатопеи, подскажут мне, и прибавят, что теории такого рода давно опровергнуты и высмеяны. — Они и заслуживали высмеиванья, отвечу я, поскольку сводили ономатопею к воспроизведению всяческих «ку–ку» и «вау–вау»; как того же заслу- живают теории поэзии, низводящие стихи вроде только что приведенных державинских на уровень того, что называли в XVIII веке «подражательной гармонией». К счастью, теперь, многие понимают ономатопею значительно шире, да и начинают по–новому видеть связь, угаданную романтиками и уже Вико, между первобытным состоянием языка и тем возвратом к этому его незастывшему, расплавленному виду, который осуществляется в поэзии. Переплавкой его как раз и занимаются поэты. Не все слова в языке одинаково «выразительны», т. е. пригодны для миметической (подсобной мимезису) ономатопеи, но выразительность любого может быть воссоздана или усилена соседними, и она всегда — это важно помнить — совпадает с изобразительностью. В языке, в отличие от непроизвольных «выражений лица», не может быть одного без другого. Он знает только обходящееся без обоих обозначение и, рядом с ним, изображающее выражение (хотя мы нередко называем обозначение выраженьем, например, когда говорим «я выразил ему свое сочувствие», в то время, как мы это сочувствие всего лишь обозначили невыразительными словами). Кроме того, выразительность или, что то же, миметизм речи может не сосредотачиваться на отдельном слове, как во втором нашем примере, а охватывать целую группу слов и порой два стиха или больше, в результате чего
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой
значат не только то, что они значат в прозе, оттого что тут и пламень пенится, и шипенье пламенеет, голубеют и бокалы, и пламень, и пунш; подобно тому, как «печальный пасынок природы» (три «п» и восхождение «а, а, о» превращают эти слова в единый эпитет) не просто
Бросал в неведомые воды Свой ветхий невод,
а еще и соткал из этих гласных и согласных сплошную ткань, сплел в одно ветхий невод и неведомые воды. Но, конечно, такую густоту и насыщенность звукосмысла нельзя считать для поэзии необходимой, или даже во всех случаях желательной. С исчерпывающей, с гениальной убедительностью это показывает именно «Медный Всадник». Он ведь как раз и построен на противопоставлении такого звукосмысла, относящегося к Петербургу и Петру, совсем другому, характеризующему (лучше было бы сказать изобразительно выражающему) Евгения, его Парашу и
Домишко ветхий.
Над водою
Остался он как черный куст.
Его прошедшею весною
Свезли на барке.
Был он пуст
И весь разрушен.
Только два последних «у» образуют миметический повтор; осмыслены здесь, как и во всем мимезисе этой темы, не тембры, а ритмические ходы: постоянные остановки в середине строки и обусловленные этим «перескоки» (превосходный термин Тредиаковского). Есть также в поэме некоторые роздыхи и переходы, где к четырехстопному ямбу ничего, так сказать, не прибавлено. Их звукосмысл можно назвать минимальным. При повествовании допустимо им довольствоваться. Для лирики его было бы маловато.
Сам стих, поскольку в нем оживает и осмысляется метрическая схема, уже явление звукосмысла, как, вне метра, и проза, о которой Малларме хорошо сказал, что в ней, как только возникает ритм, появляется стиль (т. е. искусство и, если угодно, поэзия). Но, конечно, есть много разновидностей прозы, со звукосмыслом не совместимых и для него непригодных. Они довольствуются благозвучием, иначе говоря отсутствием чересчур оскорбительных для уха звукосочетаний, как и слишком нудных повторений тех же или сходных по звуку слов. Для словесного искусства, в стихах ли или в прозе, этого совершенно недостаточно; вот почему «евфония», для разговора о нем, плохое слово (друзья, не пишите его хоть через «э», а то начнете скоро писать «Эвгений» и «Эвропа»). Но почему же звукосмысл несовместим с далекими от искусства видами прозы? Потому что не всякий смысл так тесно соединяется со звуком, чтобы из соединения их мог образоваться звукосмысл. И тут мы снова подходим к родству стихотворного (и поэтического вообще) слова с первобытным словом, о котором составить себе— очень приблизительное, конечно— представление не так уж невозможно, как обычно думают.
Первоначальное именование относилось не к вещам, а к воспринятым или пережитым качествам вещей. В конце прошлого века Узенер, в своей книге об именах богов, очень проницательно заметил, что ранние человеческие слова должны были иметь характер скорей прилагательных, чем существительных или глаголов. В наше время другой филолог, Снелль, пришел к столь же правильному выводу о том, что среди функций языка, та, которую по преимуществу выполняют прилагательные, наиболее соответствует языку искусства [218]. С мыслью Узенера он эту свою мысль не связал; связь, очень ясная и способная многое уяснить, получается тут лишь через мимезис, в том первоначальном значении, которое мы этому слову вернули. Изображающее и отожествляющее выражение только и могло, только и может относиться к замеченным и качественно опознанным нами явлениям, ставшим тем самым и частицами нашего внутреннего мира, а не к вещам или фактам, мыслимым нами как нечто отдельное от нас и отделимое от своих качества. Вещи и факты — не сами по себе, но в осознанности их — продукт отвлекающей их от их пережитой качественности мысли. Выражения они не требуют и выразить их нельзя. Отожествиться с ними тоже нельзя, ни непосредственно, ни посредством слова, все равно пользующегося ли словами или прибегающего к средствам других языков (живописи, например, или музыки). Их можно только обозначать нейтральными, условными, никакого сближения с ними не ищущими знаками, а также изображать, но при помощи таких же знаков, т. е. без выраженья, — что имеет место, например, при протокольном описании или такой же зарисовке. Качества при таких операциях возвращаются предмету, но как бы наклеиваются на него, в сознании их отдельности. Такого сознания у раннего человечества как раз и не могло быть, как его нет и у художника или поэта, по крайней мере, в те часы или минуты, когда он мыслит как художник и поэт. Оттого‑то и доступен ему мимезис, что он мыслит, как мыслил человек, когда создавал язык. Это мышление дорассудочно и донаучно. Никакой рассудок, никакая наука не могут его заменить. Думать, что укорененность в далеком прошлом признак отсталости — нелепый (хоть и распространенный) предрассудок не достойный ни разума, ни науки. Но тем, кто его принимает к руководству, следует на искусство и поэзию поставить крест, а не стараться их обманом протащить в цивилизацию, которой нечего выражать и где им поэтому нет места.
Независимо от мимезиса, хоть и в тесной связи с самой возможностью его, поэт ищет в слове его смысла, а не его значения. «Смысл» и «значение», в нашем языке, как и родственные слова в других языках, не разграничены достаточно ясно; однако можно под смыслом понимать то, что непосредственно открывается в слове, включенном в живую речь, помимо его отнесенности к вещам и фактам (мыслимым отдельно от восприятия или переживания их), а под значением — как раз эту отнесенность. Вещи и факты мы обозначаем сквозь понятия. Существуют слова, только и пригодные для такого обозначенья, это имена понятий, термины; в поэзии они неприменимы без иронического или эмфатического осмысления их. Но большинство слов пригодны как для обозначения понятий, так и для выражения своего смысла, который может очень далеко отстоять от соответственного понятия, и может приближаться к нему, никогда с ним однако не совпадая. Лесоводство знает понятие «лес», выцеженное из смысла слова «лес», посредством изъятия из него всего, что позволяло бы обозначенное им облечь в «багряный убор», да еще сказать, что оно этот убор «роняет». «В багрец и золото одетые леса», это те же, да не те, что поставляют сырье лесопильным заводам; для топора те же, для языка не те: я именую их тем же словом, но одни через его смысл, а другие через его значение. Уже самый стих заботится о том, чтобы понятия не встречались в стихах: значение слов он подменяет их смыслом. Когда Ломоносов рифмует химию с Россией, он так же далеко отводит ее от химии, как Россию от географии. Однако, в пушкинской строке помогают этому и метафоры. Понятие «лес» знать ничего не знает о лесах одетых, и еще того меньше о лесах одетых в золото. Метафоры, как и все тропы, тому прежде всего и служат, чтобы сказанное воспринималось со стороны своего смысла, а не значения. Но из этого отнюдь не следует, чтобы тропы или «образные выражения» по самой своей природе отличались бы от других слов, применяемых в стихах. Между метафорами и не–метафорами нельзя даже провести вполне строгую границу, как показывает слово «багрец» в той же строке, царственность, пурпурность и трагичность которого (через Евангелие) поэтом, конечно, учтены, но которое — с натяжкой — можно принять и за простое обозначение определенного цвета. Слово «леса» и без натяжки можно было бы непоэтически понять, тогда как счесть, в этой связи, одежду одеждой или принять золото за чистую монету, было бы и вовсе невозможно. В этом вся — скользящая — разница и есть. Ею дифференцируются, внутри поэзии, поэтические стили. В разговорном языке метафоры потушены, значения и смыслы перемешаны (оттого‑то он так неясно и разграничивает слова «значение» и «смысл»). Пушкин не любит применять резких средств для отсеиванья смысла, не зачеркивает значений, чем и создает иллюзию простоты. Он не проще, а хитрей многих других поэтов.