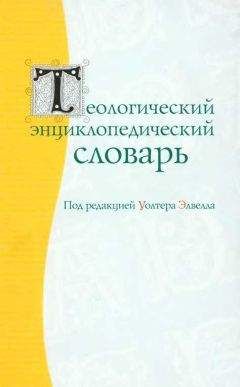Дмитрий Шишкин - Возвращение красоты
Делать нечего, обнялись мы с Валентином Феликсовичем на прощанье, я ему говорю:
— Вы только не забывайте меня никогда, пожалуйста.
А он отвечает:
— Ну что ты, Юлочка… как же я тебя забуду, милая… И ты меня не забывай!
При этом у него глаза такие печальные стали, он поцеловал мою голову и говорит:
— Я так мало уделял внимания своей дочке, больше сыновьям… И когда я взял впервые твою ладошку в свою руку, то почувствовал, что Господь послал мне ангела.
Я прижалась к нему и стала бормотать, что уже не могу жить без него. А он говорит:
— У тебя есть родные! Папа, мама, дедушка, бабушка… они тебя очень любят. Ради них ты должна вернуться.
На том и простились, и отправилась я домой, в Новосибирск.
Потом мы собрали вещи и всей семьей поплыли в Магадан. Корабль назывался «Джурма», как сейчас помню. Наверху, на палубе, — «вольноопределяющиеся», а в трюмах — ссыльные и осужденные… Страшное дело… Мы с братом заглянули раз внутрь, когда баланду заключенным передавали… Так — две доски опускали в трюм и по ним спускали выварку с пойлом… Едой это и назвать трудно, так… баланда: вода, перловки маленько… и все. Так вот, заключенные там, в трюме, я это сама видела — не сидели, нет… они, вы понимаете, стояли плечом к плечу… Я эту картину на всю жизнь запомнила: валит пар из трюма, а там, в глубине, — люди… стоят и раскачиваются… Вот как пароход переваливается на волнах, так и они… из стороны в сторону… Молча.
Ночью видела, как людей умерших за борт выбрасывают. За руки, за ноги возьмут, раскачают и — только плеск. Страшное время… А еще паренек один, кажется, тоже из ссыльных… как-то он на палубу выбрался… Потом говорили — сбежать хотел, затеряться среди «вольных». Но его заметили и, представляете, на наших глазах из станкового пулемета расстреляли… И люди ведь на палубе были, а «тем» все равно… Но не убили, а только ранили. Тогда он сам дотащился до перил, перевесился и — в воду. И мы, дети, все это видели…
Ну ладно. Приплыли в бухту Нагаева. Папа нас с машиной встретил, и вот мы поехали в Магадан. Едем, а вдоль дороги тянется бесконечная вереница несчастных каторжан, и все вперемешку: женщины, старики… дети даже были, я помню… А женщины… я обратила внимание… некоторые — в платьицах ситцевых, а ведь это север, и уже к осени дело…
Папа мне в машине дал плитку шоколада голландского, а я, знаете, попросила притормозить, выскочила и сунула крайнему кому-то из колонны эту плитку шоколада. Охранник дернулся, но они — несчастные — уже знали, как поступать в таких случаях, — быстро передали по рукам эту плитку и — как не бывало, а я в машину вернулась, и мы дальше поехали.
А потом еще страшнее было… Вот вы послушайте, я это своими глазами видела. Подъехали мы к какому-то лагерю, остановились… А туда как раз подвели группу заключенных, и вот — выходит, я так поняла, что начальник лагеря… с автоматом наперевес и давай с главным конвойным ругаться: что ты, мол, мне столько народу привел?! Куда столько?.. Да пошел ты… Столько-то возьму, а остальных мне не надо, — и представляете, так отделил людей «на глаз», автомат скинул и — очередью всех уложил… Как ни в чем не бывало, вы понимаете… А потом говорит охранникам: «Наведите тут порядок» — мол, трупы уберите, — развернулся и пошел… Вот такие вещи творились… А отец… что отец? Побелел как мел и говорит шоферу: «Давай гони быстрее…».
Но потом я уже таких ужасов не видела. Поселились мы в хорошем особняке… Кушали хорошо… Я когда начинала там иногда капризничать насчет еды, отец меня осаживал: «Знаешь… тут многие о такой еде и мечтать не смеют…».
Еще, помню, был случай… У отца в конторе наблюдала я как-то за Гараевым — был такой видный деятель НКВД, помощник Берии… Все ходил, пистолетом поигрывал… И вот отцу пришла как-то открытка от тети, а она немка «природная» была и по-русски писала не очень грамотно… И вот этот Гараев подошел, открытку прочитал бесцеремонно, взял там красным карандашом ошибки кой-какие поисправлял и говорит:
— Что-то у родственницы твоей ошибок много… Как ты ее терпишь?..
Тут я не выдержала и говорю:
— Так что, ее за то, что она пишет неправильно, — расстрелять, расстрелять, да?
Он молчит.
Я подошла близко-близко, в глаза ему прямо смотрю и говорю:
— Дядя, вы бандит… Да?
Он несколько секунд на меня так смотрел… жестко, в упор, а потом развернулся и вышел молча… Не знаю, может, почувствовал правду… все-таки «Устами младенца…».
Мне папа с этого дня все говорил:
— Юлечка, молчи… только молчи, я тебя прошу…
Ну вот… Так мы и жили, а потом, уже после войны, я вдруг заболела… знаете, слабость, температура повышенная постоянно. Словом, какой-то воспалительный процесс, а что конкретно — понять не могут. Заподозрили начальную стадию туберкулеза, и вот — решили мы всей семьей переехать в Крым.
Прилетели в Симферополь 22 октября 1948 года. И вот повезли меня «послушаться» у хорошего доктора… он в военном госпитале принимал, консультировал… на бульваре Франко, как сейчас помню. И вот — заводят меня в кабинет, и вдруг я вижу — Валентин Феликсович!.. В рясе, с панагией, с крестом архиерейским… все как положено… Я, знаете, чуть сознание не потеряла, просто онемела, стою как столб и не знаю, как себя вести… А он меня не узнает, да и не смотрит в лицо, чем-то занят своим, карточку, кажется, просматривал… Потом подзывает меня, берет стетоскоп и говорит: «Ну-ка подними маечку, я тебя послушаю…». И тут я вдруг застыдилась… ну, вы понимаете, мне уже почти тринадцать было, и я уперлась, вцепилась руками в майку и — ни в какую… А святитель так деликатно тогда говорит: «Ну хорошо… давай мы тебя со спинки тогда послушаем». Я майку подняла, он слушает и говорит: «Деточка, что ж ты напряженная такая… каменная вся?». А я чувствую, что сейчас в обморок упаду, и тут повернулась лицом, святитель на меня посмотрел и… точно искра какая-то пробежала — повернулся к столу, карточку взял. Прочел имя, фамилию и вдруг говорит таким голосом изменившимся:
— Юлочка… Это ты, что ли?!
Ну, меня тут прорвало — разревелась, бросилась к нему на шею, а он, представляете, сам расплакался, обнял меня, гладит по голове и приговаривает:
— Юлочка… девочка ты моя… Да что же ты… Как же тебе не стыдно… Мы ведь друзья с тобой… Войну прошли… Помнишь?
— Помню, помню…
А сама плачу…
Все опешили просто. Медсестра стоит, понять ничего не может… Потом объяснились… Все заохали, заахали… Вот так мы с Валентином Феликсовичем встретились снова, и потом я еще к нему приходила не раз туда, где он жил, — на Курчатова, общались много…
Вы знаете… я человек от Церкви далекий, ну что поделаешь… так уж меня воспитали… Но в Бога я верую, а Валентин Феликсович для меня… это, может быть, самый дорогой человек на свете. Я даже не знаю, как это вам объяснить!
И вот еще что… Мне бы поисповедоваться, отец Димитрий, причаститься… Я в храм не хожу, но чувствую, что надо бы. Так что я приду как-нибудь… Обязательно приду.
* * *
Через два дня Юлия Дмитриевна действительно пришла к нам на службу, поисповедовалась, а на следующий день — причастилась. Впервые за много лет.
Господи, молитвами святителя и исповедника Луки, помилуй нас!
ХРИСТОВО БЛАГОУХАНИЕ
Как-то я прочел в паломническом проспекте любопытную информацию о том, что на мощах святителя Луки ежегодно приходится менять стоптанные тапочки. Что сказать на это… может, где-нибудь и вправду такое событие имеет место, но только не у нас в Свято-Троицком монастыре. И мне подумалось… что за странное стремление прибавлять «от себя» хоть немного чудесинки, «приукрашивать» хоть маленько чужую святость… Зачем?.. Она ведь в этом не нуждается и сама украшает нашу жизнь без лишних фантазий… в том числе и явлением подлинных, дивных чудес.
Признаюсь, я никогда не сомневался в святости святителя Луки, слишком очевидно величие его веры и подвиг жизни, слишком явно действует через этого великого праведника Божественная благодать. Но вот что касается благоухания… Оно такое сильное, что распространяется далеко вокруг и ощущается не одним-двумя, а множеством людей, присутствующих в храме…
И я подозреваю, что не у меня одного возникал этот вопрос… не то чтобы крамольный, а… неудобный, неловкий, что ли. Ну вот благоухание это — оно чудесного происхождения или естественного? Вероятно, умащали благовонным составом мощи, и вот — запах не выветрился, хранится до сих пор. Что тут зазорного… ведь может же такое быть? Тем более что далеко не все мощи святых благоухают, и совсем не благоухание является определяющим, если можно так сказать, признаком святости.
Я пытался выяснить — умащали ли мощи святителя благовонным составом при обретении, но никто не мог мне сказать ничего вразумительного. Ладно, думал я, в конце концов, даже если умащали — не может же запах так долго сохраняться, он должен выветриться, потускнеть… Но ничего такого за шесть лет моего служения у мощей святителя не случилось. Напротив — благоухание временами становилось как будто сильнее, явственнее, особенно в моменты церковных торжеств, общей духовной радости.