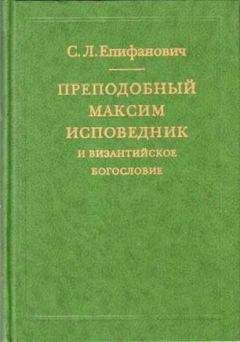Сергей Иванов - Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина?
Как связано христианство с запретом на употребление в пищу ослиного и верблюжьего мяса — Феодорит не поясняет, это кажется ему само собой разумеющимся.
Подобное отношение сохранилось на многие века. Когда в 1253 г. западный миссионер Гильом де Рубрук ехал через захваченные татарами причерноморские земли, его чрезвычайно поразила та нервозность, которая ощущалась между тамошними христианами по поводу питья кумыса. Сам Рубрук попробовал этот напиток и спокойно отметил, что он «очень вкусный». Ханский правитель, которого посетил миссионер, «спросил у нас, хотим ли мы пить кумыс… ибо находящиеся среди них христиане, русские, греки и аланы, которые хотят крепко хранить свой закон, не пьют его и даже не считают себя христианами, когда выпьют, и их священники примиряют их тогда [со Христом], как будто они отказались от христианской веры»[1016].
К изумленному Рубруку приходили аланы и «спрашивали они и многие другие христиане, русские и венгры, могут ли они спастись, потому что им приходилось пить кумыс и есть мясо животных, или павших, или убитых сарацинами и другими неверными, что даже сами греческие и русские священники считают [грехом]… Тогда я разъяснил им, как мог, научил и наставил их в вере»[1017]. Зловещее значение, которое византийские миссионеры придавали кумысу, показывает, что греки наделяли культурное различие религиозным смыслом. Кочевник, чья жизнь невозможна без кумыса, не может быть христианином. Рубрук рассказывает, что к нему пришел один «сарацин», выказавший желание креститься — после долгих колебаний он заявил, что все‑таки не будет этого делать, ибо кроме кумыса ему нечем питаться. Ясно, что подобные воззрения, распространявшиеся греческим духовенством, в зародыше подавляли всякую возможность обращения кочевников[1018].
VIКоль скоро миссионер обращался в первую очередь к властителям, ему нужно было что‑то сказать об отношении новой религии к их власти. Что же говорили греческие проповедники о политике? Данных у нас нет, и потому опять приходится обращаться к родственной кавказской традиции. В VI в. армянин Григорис, внук Григория Просветителя, отправился в страну масктов (гуннов–савиров) и предстал перед Самасаной, царем масктов. Его проповедь развивалась весьма успешно, пока он не начал наставлять варваров в непротивлении и миролюбии. Вот что они отвечали ему, согласно историку Фавсту Бузанду: ««Если не будем похищать, грабить, отнимать чужое, как же можем мы прокормиться?«И хотя он на тысячу ладов старался благорасположить их, они его не хотели слушать, а говорили: «…как нам жить, если по исконному нашему обычаю не садиться на коней? Но это делается по наущению армянского царя, это он послал к нам, чтобы этим учением пресечь наши грабительские набеги на его страну»»[1019]. Незадачливого миссионера привязали к хвосту дикой лошади и пустили по полю.
Варвары были по–своему правы — ведь христианский миссионер, даже если он не являлся официальным послом, не мог быть вовсе равнодушен к интересам своей страны (в этом его принципиальное отличие от ирландского миссионера (ср. с. 175), человека без отечества!). Значит, его проповедь должна была быть кому‑то выгодна. Но если польза шла лишь христианизаторам, то какие же выгоды могли достаться христианизуемым? Проповедники обязательно должны были найти ответ на этот вопрос, если не хотели повторить печальную судьбу Григориса.
О том, что на Руси в свое время возникали те же сомнения по поводу христианства, как и несколькими столетиями раньше у прикаспийских гуннов, свидетельствует полулегендарный рассказ арабского писателя Аль–Марвази: «Когда они [руссы] приняли христианство, эта вера притупила их мечи, и дверь благосостояния закрылась перед ними… Они возжелали ислама, ибо он разрешает победы и войны — тогда они смогли бы восстановить силы»[1020]. Видимо, ответ на эти сомнения варваров был найден как на Кавказе, так и в Византии.
Когда в VII в. все те же кочевые племена Прикаспия начали разорять христианское Агванское княжество, князь ВаразТрдат «совещался с князьями и католикосом Илиазаром… «Войска гуннов нашествуют на страну нашу… Изберите из страны нашей епископа, чтобы он отправился… и расположил к миру и неразрывной любви»»[1021]. Как видим, цели князя могли бы подтвердить самые худшие опасения варваров. В качестве миссионера был послан епископ Мец–Когмана Израиль. Рассказ Моисея Каганкатваци о его миссии слишком обширен (увы, греческая традиция не сохранила нам ни одного источника о миссиях, приближающегося к Моисею по информативности!), чтобы его цитировать хоть скольконибудь полно. Мы отметим главное, что отличает «апостольство» Израиля от «апостольства» Григориса. Выслушав наставления миссионера, верховный князь «гуннов» Илитвер сказал своим приближенным: «Господь послал нам руководителя жизни в лице этого епископа, который… дал нам познать всетворящего Бога и дивную силу его, во что уверовали все мысли мои Возьмем себе в пример все страны, принявшие эту веру, и великое царство Римское. Говорят, что был некоторый царь Константин, который построил Константинополь. Говорят, что он был первым христианином этого царства. И до того был верующим муж этот, что ангел Божий служил ему. И великой победой этой веры он сокрушил всех врагов своих. Если посредством христианской веры можно сделаться столь славным и победоносным, за что же мы станем медлить веровать в Бога живого. Вот — учитель заповедей Божиих, епископ Израиль. Давайте попросим его, чтоб он остался в стране нашей и просветил нас»[1022]. Христианство из религии ненасилия, какой оно представало в проповеди Григориса, превратилось в рецепт военной удачи, чем немедленно прельстило варваров.
Чрезвычайно интересно упоминание о мощи Империи и о Константине, которому следует подражать. Этот мотив явно присутствовал и в проповедях византийских миссионеров: не даром же патриарх Фотий называл «Новым Константином» болгарского князя Бориса, император Михаил — моравского князя Ростислава, Иларион — Владимира Киевского. А. Авенариус считает, что такое уподобление имело целью принизить варварского правителя — ведь василевс приравнивался к самому Богу, а новокрещенный варвар — «лишь» к земному властителю[1023]. Вряд ли можно согласиться с таким построением. Ведь киевский митрополит Иларион — сам русский, и если бы ему казалось, что уподобление князя–крестителя Константину недостаточно торжественно, он мог бы легко отказаться от него, греки бы ничего не заметили. А тот факт, что варварские правители и сами любили называть себя «Новыми Константинами»[1024] свидетельствует о почетном характере этого титула.
У нас практически нет данных о впечатлении, которое производили на варваров собственно греческие миссионеры, но можно предполагать, что агванский епископ Израиль пользовался при общении с гуннами общеупотребительным набором клише: к примеру, его ссылка на ангела, который служил императору Константину, весьма сходна с речами, которые рекомендует говорить варварским послам Константин Багрянородный (см. выше, с. 208). Итак, христианство рекламировало себя не только как религия, совершавшая чудеса, одолевавшая болезни и приносившая блага цивилизации, но и как религия военной победы.
VIIКогда благосклонное внимание варваров было завоевано, миссионер мог приступать собственно к своей религиозной задаче. Важную роль в его деятельности играло разрушение языческих капищ и статуй богов. Вот как описано уничтожение истукана в сказочном Житии Панкратия (см. выше, с. 117): «Блаженный Панкратий, взяв честной и животворящий крест и святые евангелия и икону Господа нашего Иисуса Христа, и икону святого апостола Петра, и его два кафолические послания, и изображение вочеловечения Господа нашего Иисуса Христа, которые он сделал на пергаменных листах (έν πίναξι χαρτώοις) вместе с иконой апостола, и, предержа те две иконы вместе с крестом, приблизился к [истукану] Фалкону и, подойдя к статуе и ударив ее рукой…»[1025]. Именно так действовал, кстати, и Израиль у гуннов, и Константин Философ у фуллитов (см. с. 151).
А вот как Житие Панкратия описывает проповедь язычнику: «Призвав меня, блаженный [Панкратий] сказал мне: «Сыне Евагрие, принеси мне Евангелие и [свитки] пергамена с изображениями и иконы“, каковые он [Панкратий] ставил перед нами, когда мы отправляли всенощную; и, сделав нужный поклон, поднялся[1026] и, развернув[1027] святое евангелие от Матфея, говорит мне: «Читай нам [это] место, сыне“; а сам блаженный удержал при себе то, что было на картинках. Когда я начал читать, он толковал и показывал им [язычникам Вонифатию и Ликаониду] всяческие образы (υπεδεικνυεν αύτοις απασαν εικόνα) воплощения Бога Слова так, как это передал ему блаженный апостол Петр. Он демонстрировал[1028] все с самого начала согласно с чтением (απ’ αρχής απαντα κατα τήν άνάγνωσιν).