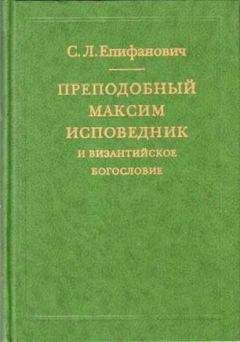Сергей Иванов - Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина?
Ясно, что широкие массы варваров знакомились с новой религией отнюдь не через имперских послов — просто низовая, монашеская миссия, как мы уже говорили, плохо заметна. Попробуем тем не менее проследить ее на примере славян. Кажется, что обозначение для инока должно быть одним из самых древних христианских заимствований в любом языке — ведь чтобы начать катехизацию, миссионер должен был сначала назвать самого себя. Из всех славянских слов для монаха («мънихъ», «инокъ», «отходникъ» и др.) самым древним и изначальным является слово «черноризецъ» (или стяженное «чернец»). Слово это выглядит калькой с греческого термина μελανειμων «черноодетый». Проблема, однако, в том, что хотя такое греческое слово действительно существовало, оно обычно обозначало «носящий траур». Так это было не только в античности, но и в христианские времена, когда монахи уже существовали, — раз никакой путаницы от этого не возникало, значит, слово не использовалось в Византии для описания монахов. Правда, слово μελανειμων все‑таки изредка употреблялось терминологически, но обозначало оно отнюдь не обычного монаха. 42–е правило Трулльского собора 692 г. воспрещает входить в города «так называемым пустынникам, группе людей, которые именуются еще черноризцами (τούς λεγομένους έρημίτας οΐτινες μελανειμονοϋντες)»[979]. Слово до такой степени не воспринималось как terminus technicus, что позднейший комментатор Матфей Властарь счел необходимым глоссировать его: «Черноризец — это тот, кто носит черное»[980]· Тем самым можно предположить, что первыми пропагандистами христианства среди славян стали подозрительные с точки зрения официального православия, не приписанные ни к какой обители, бродячие монахи[981].
IIIПеред глазами всякого начинающего миссионера должен был сиять пример апостолов, которые «путешествовали в чужую землю… Они учили и в деревне, и в городе. Один — в Римском государстве, другой — в земле персов, третий — армян, четвертый [обращался] к народу парфян и дальше к скифам, пятый добрался до самого края земли, дойдя до земли индов, шестой перебрался на другую сторону Океана, до так называемых Британских островов»[982]. Но каким способом апостолы достигли своих впечатляющих результатов? Отцы церкви отвечали на этот вопрос «аподиктически», т. е. отрицая важность всего того, что на первый взгляд может показаться подспорьем в христианизации: «Не поднимая оружия, не раздавая деньги, не благодаря физической силе или множеству войск, или чему иному… но лишь при помощи слова [апостолы] овладели вселенной»[983]. Но ведь им для проповеди не было даже никакой нужды физически передвигаться с места на место. По признанию Златоуста, «[Павел] евангельским писанием победил всю вселенную, телом находясь в середине Азии»[984]. Это убеждение, хоть и подвергалось подчас легкой корректировке (ср. с. 203), в общем оставалось неколебимым вплоть до поздней эпохи. Михаил Глика в XII в. воспроизводит все тот же стереотип: «Как апостолы уловили в свои сети весь мир? Каким образом? Благородством? Могуществом? Мудростью? Убедительностью речей? Славой? Богатством? Деньгами? Ничего этого у них не было! Они были голы и безоружны — единственной их одеждой была сила Св. Духа; через нее все языци были привлечены и припали ко Христу»[985]. Пусть так, но куда уж тягаться с апостолами рядовому миссионеру. Хорошо если ему удавалось стать членом официального византийского посольства. А если нет? Каким способом он должен был передвигаться по варварской земле? А кто гарантировал ему хоть минимальную безопасность, если не местная власть? Ведь сами миссионеры должны были, по словам Василия Селевкийского, быть «вооружены вместо оружия крестом»[986]. А откуда проповедники узнавали о географии своей миссионерской области? Византийские источники на сей счет почти ничего не сообщают. Как ни странно, единственное известие мы находим в полусказочных эфиопских житиях «римских святых», проповедовавших в Абиссинии на рубеже V‑VI вв. (см. с. 75). Согласно легенде, места для проповеди Афсе назначал архангел Уриил, а с места на место его переносила огненная колесница[987], а св. Михаилу Арагави — архангел Михаил (см. с. 77). Ничего более реалистичного источники нам почти не предлагают.
Вопрос о том, с каким багажом приходил миссионер к варварам, решается исключительно на основании текстов почти баснословных. Самый полный инвентарь мы находим в сказочном Житии Панкратия Тавроменийского, написанном в VIII в. Текст этого гигантского памятника еще не опубликован, но его фрагменты, важные для истории миссионерства, рассмотрены в работе И. Шевченко[988]. Приведем некоторые важные отрывки (в переводе И. Шевченко): «…апостол Петр дал им весь церковный чин (απασαν έκκλησιαστικήν κατάστασιν), две книги божественных таинств (τόμους δύο των θειων μυστηρίων), два евангелия, два «апостола», которые проповедовал блаженный апостол Павел, два серебряных дископотира, два креста… и украшения церкви, то есть образ Господа нашего Иисуса Христа, [изображения] из Ветхого и Нового заветов, которые были созданы по приказанию св. Апостолов»[989].
Практические проблемы обступали миссионера со всех сторон, едва он оказывался среди варваров. Если речь идет о кочевниках — то можно ли иметь переносной алтарь? Леонтий Византийский (VI в.) рассказывает историю, якобы случившуюся в его время: некий актер бежал от правосудия в пустыню, на «варварское пограничье»; там он был схвачен крещеными сарацинами, которые приняли его за монаха и заставили служить литургию. Не в силах объяснить недоразумение, он согласился. «Они поставили в пустыне алтарь из хвороста, застелили его материей, положили свежевыпеченный хлеб и смешали в деревянной бочаге вино; он же, встав [у алтаря], перекрестил дары, возвел очи к небу, призвал одну лишь Св. Троицу и, преломив [хлеб], раздал им. Позднее они со всем почтением убрали бочагу, ибо она была освящена, а равно и материю, дабы все это не было осквернено, и лишь об алтаре забыли. И внезапно сошел с неба великий огонь — он не тронул и не причинил вреда никому из них, но вот алтарь из хвороста сжег и пожрал целиком, так что и золы не осталось. Наставленные зрелищем этого чуда, варвары стали просить того, кто служил литургию, чтобы он построил какойнибудь дом для богослужения»[990].
Из этого рассказа следует, что временный алтарь не одобрялся византийской церковью. Здесь, как и во многом другом, еретические церкви были терпимее имперской. Переносные алтари засвидетельствованы в сирийской традиции, в которой священникам, кочующим с племенем по пустыне, разрешалось делать алтарь, держа материю на весу[991]. В эфиопском Житии Михаила Арагави святые несут с собой из Византии в Абиссинию «алтарный камень»[992]. В X в. арабский христианин Ибн–Джарир пишет: «Среди арабов были христиане, такие как [племя] бани–таглиб, и одно йеменское, и другие. У них был епископ, который сопровождал их при их перемещениях, будучи облачен в церковные одежды, и возил с собой алтарь»[993]. Псевдо–Филоксен сообщает похожие сведения об обращенных сирийцами–монофиситами тюркских кочевниках: «Свои святилища они возят с собой, куда бы они ни направлялись»[994]. Подобная терпимость была усвоена византийской иерархией в поздний период, ср. опыт Феогноста у татар (с. 286).
IVВыше мы уже говорили о том, что богословие «говорения на языках» никак не включало в себя идею, что апостолы научились реально разговаривать с варварами на их наречиях (см. с. 70). Скорее Отцам церкви казалось, что каждый воспринимает Божье слово на своем собственном языке, причем без всякого перевода, «и всякий человек, ходящий по земле, услышит этот голос, ибо не через уши, а через глаза войдет он в наше сознание»[995]. Некоторое сомнение может возникнуть разве что при чтении Феодорита: «И еврейская речь была переведена не только на греческий язык, но и на римский, и на египетский, и на персидский, и на индийский, и на армянский, и на скифский, и на савроматский — короче говоря, на все языки, какими продолжают пользоваться все народы»[996]. Однако даже и в этом случае скорее всего имеется в виду не лингвистический, а мистический «перевод».
Михаил Пселл в сочинении, специально посвященном проблеме «говорения на языках», подчеркивает, что речь идет не о лингвистической одаренности: «Кто двигал их языком? Кто переводил на наречие каждого? Знание языков? Но они вовсе не были этому обучены (ούδαμοϋ ταύτην μεμαθήκασιν)… Переводить разговор на язык слушающих — это мог бы сделать и человек, побродивший по многим городам и навыкший многим наречиям (πολλοίς έπιπλανηθείς πόλεσι καί πλείσταις γλώσσαις ένωμιληκώς)· Мы восхищаемся на многих наших современников, которые иногда разговаривают по–арабски, иногда по–финикийски или по–египетски, которые имеют общий язык (την γλώτταν διαμερίζουσιν) с персами, ивирами, галатами, ассирийцами. На таких мы удивляемся из‑за их, так сказать, благоязычности»[997]. Интересно, что описанный Пселлом тип человека в его собственных глазах никак не напоминает идеальных миссионеров — апостолов. Особенно характерно отношение к проблеме «говорения на языках» у такого экзегета, как Феофилакт Охридский: этот греческий иерарх сам жил среди варваров–болгар (см. с. 241), и вопрос об иностранном языке как языке проповеди, казалось бы, должен был иметь для него сугубо практическое значение. Ничего подобного! Он столь же абстрактно рассуждает об этом, как любой из Отцов церкви, никогда и в глаза не видевший ни одного варвара[998]. И лишь под самый конец существования Византии апостольская миссия стала представляться как реальное, а не фантастическое предприятие. Вот как описывает его Иосиф Вриенний (XV в.): «Многоразличие и пестрота языков, различия в нравах, власть [местных] правителей, огромные расстояния, отсутствие у иудеев склонности к общению с другими народами… препятствовали тому, чтобы все [люди] увидели, услышали и поверили в Бога… апостолы же благодаря своей многочисленности разбрелись вплоть до пределов земли… а поскольку [благодаря дару] свыше они выучили абсолютно все наречия (δια τό πάσας άθρόον τάς γλώσσας έξ υψους μαθεΐν), каждый из них научал каждый народ на языке этого народа (έκαστον έθνος, ττ του έθνους γλώττη, έδίδαξεν έκαστος)»[999].